"тройка, семерка, туз..."
От редактора: "Пиковая дама" - опера совершенно особая; рискну заявить, не только среди русских опер, но и в мировой оперной литературе. От многих меломанов мне приходилось слышать: "Я не люблю "Евгения Онегина", или: "Терпеть не могу Римского-Корсакова", и т. д. Однако самые закоренелые "итальяноманы", или люди, вообще от оперы далёкие, тем не менее, признавались в любви к "Пиковой". Да и на Западе, похоже, она скоро возглавит - если уже не возглавила! - хит-парад самых популярных русских опер.
Предлагаемый читателю материал - не рецензия, хотя и содержит детализированный обзор нескольких записей "Пиковой". Это и не культурологическое эссе, хотя и без этого в статье не обошлось, и не музыковедческий труд, хотя и имеет некоторые вкрапления практического музыкознания...
Своим человеческим, слушательским и музыкантским опытом с вами делится Юрий Шалыт. "Думайте сами, решайте сами..."
Предлагаемый читателю материал - не рецензия, хотя и содержит детализированный обзор нескольких записей "Пиковой". Это и не культурологическое эссе, хотя и без этого в статье не обошлось, и не музыковедческий труд, хотя и имеет некоторые вкрапления практического музыкознания...
Своим человеческим, слушательским и музыкантским опытом с вами делится Юрий Шалыт. "Думайте сами, решайте сами..."
"тройка, семерка, туз..."#2
Сегодня, с высоты обретенного художественного опыта я, конечно, воспринимаю любимую оперу иначе, чем много-много лет назад. Поэтому хочется снова вглядеться в знакомые черты героев оперы и, сравнив несколько ее интерпретаций, совершить еще одну попытку проникновения в тайну авторского замысла.
Для того, чтобы дать новую жизнь героям пушкинской повести, Чайковскому суждено было оказаться за границей. Еще находясь в Петербурге, он отклонил предложение Всеволожского написать оперу на этот сюжет, но стоило ему оказаться во Флоренции, как уже на второй день он стремительно приступает к работе над оперой. Так - подобно Гоголю - композитор свое, может быть, самое русское произведение создает за пределами России: "большое видится на расстояньи". Состояние своей души Чайковский мог бы передать словами Гоголя: "Он (Бог) указал мне путь в землю чужую, чтобы там воспитать свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности … откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира".
Для того, чтобы дать новую жизнь героям пушкинской повести, Чайковскому суждено было оказаться за границей. Еще находясь в Петербурге, он отклонил предложение Всеволожского написать оперу на этот сюжет, но стоило ему оказаться во Флоренции, как уже на второй день он стремительно приступает к работе над оперой. Так - подобно Гоголю - композитор свое, может быть, самое русское произведение создает за пределами России: "большое видится на расстояньи". Состояние своей души Чайковский мог бы передать словами Гоголя: "Он (Бог) указал мне путь в землю чужую, чтобы там воспитать свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности … откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира".
"тройка, семерка, туз..."#3
Вот и еще стихи. Это уже Державин, XVIII век - время действия оперы.
"В те дни, как все везде в разгулье:
Политика и правосудье,
Ум, совесть и закон святой,
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой,
Судьбами смертных пунтируют,
Вселенну в трантелево гнут;
"В те дни, как все везде в разгулье:
Политика и правосудье,
Ум, совесть и закон святой,
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой,
Судьбами смертных пунтируют,
Вселенну в трантелево гнут;
"тройка, семерка, туз..."#4
А в опере стихия бессознательного, пугающая своей таинственностью, завораживает уже с первых звуков оркестрового вступления. И центральным образом в опере, посредством которого Рок вершит судьбами ее героев, становится зловещий образ Старухи. Мы никогда не узнаем, явился ли Герману призрак Графини "наяву" или в тяжком забытьи, но очевидно одно: в "реальной жизни" действия оперы их столкновение происходит раньше "завязки" драматической интриги, как предчувствие предстоящего рокового финала. Постоянное балансирование реальности и фантастики в опере, как и в большинстве "Петербургских повестей", оказывает на слушателя властное эмоциональное воздействие.
Образ старой графини получает свое дальнейшее развитие в череде зловещих и полусумасшедших старух из романов Достоевского.
Образ старой графини получает свое дальнейшее развитие в череде зловещих и полусумасшедших старух из романов Достоевского.
"тройка, семерка, туз..."#5
Несколько страниц из "Пиковой дамы" дали жизнь новым образам, звуковым идеям и психологическим концепциям, наиболее ярко проявившимся в европейском музыкальном экспрессионизме. Интонационно-образные ситуации "Пиковой дамы" возрождаются в медленных частях малеровских симфоний, в натуралистических эпизодах "Леди Макбет" Шостаковича (особенно в первой её редакции) и в ряде картин "Воццека" Берга - в частности, в сцене смерти главного героя, где идея выдержанного тона, как выразительно-экспрессивного приема, получает новое развитие.
Однако, несмотря на отмеченные нами культурологические ассоциации и параллели в тексте либретто, следует признать, что некоторые фрагменты текста Модеста Ильича не выдерживают даже самой снисходительной критики.
Однако, несмотря на отмеченные нами культурологические ассоциации и параллели в тексте либретто, следует признать, что некоторые фрагменты текста Модеста Ильича не выдерживают даже самой снисходительной критики.
"тройка, семерка, туз..."#6
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Хор. У Самосуда - идеальное движение материала. Может быть оттого, что он точно следует авторскому метроному? К нему "ближе" Озава. Дирижеры Большого играют эту сцену поспешно, при этом "колыбельные" увещевания нянюшек, кормилиц и гувернанток звучат нелепо. У Пашаева, при достаточно быстром темпе, хор умудряется петь еще суетливее.
Эта сцена - почти парафраз первой сцены "Кармен". Здесь даже основная ритмическая формула та же. (Кстати сказать, "уход" хора композитор написал абсолютно в стиле Бизе).
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Хор. У Самосуда - идеальное движение материала. Может быть оттого, что он точно следует авторскому метроному? К нему "ближе" Озава. Дирижеры Большого играют эту сцену поспешно, при этом "колыбельные" увещевания нянюшек, кормилиц и гувернанток звучат нелепо. У Пашаева, при достаточно быстром темпе, хор умудряется петь еще суетливее.
Эта сцена - почти парафраз первой сцены "Кармен". Здесь даже основная ритмическая формула та же. (Кстати сказать, "уход" хора композитор написал абсолютно в стиле Бизе).
"тройка, семерка, туз..."#7
Наиболее удачно ариозо звучит у Нэлеппа - как, впрочем, и вся партия в целом.
В одной из книг о Чайковском я натолкнулся на замечание одного критика о первом исполнителе партии Германа - Николае Фигнере. Он писал: "Яркий темперамент Фигнера придал каждой фразе в соответствующих сильных моментах очень большую рельефность. В чисто лирических местах ... пение Фигнера было проникнуто очаровательной мягкостью и задушевностью". - Именно так поет музыку Чайковского и Нэллепп.
Расцвет творчества этого певца пришелся на пик противостояния двух теноров, разделивших советских любителей оперы на два непримиримых лагеря.
Нэлепп заметно отличался от своих более счастливых соперников благородством и подлинной культурой вокализации. Певцу были чужды проявления "теноровой" слащавости и сентиментализма, граничащих с дурновкусием.
В одной из книг о Чайковском я натолкнулся на замечание одного критика о первом исполнителе партии Германа - Николае Фигнере. Он писал: "Яркий темперамент Фигнера придал каждой фразе в соответствующих сильных моментах очень большую рельефность. В чисто лирических местах ... пение Фигнера было проникнуто очаровательной мягкостью и задушевностью". - Именно так поет музыку Чайковского и Нэллепп.
Расцвет творчества этого певца пришелся на пик противостояния двух теноров, разделивших советских любителей оперы на два непримиримых лагеря.
Нэлепп заметно отличался от своих более счастливых соперников благородством и подлинной культурой вокализации. Певцу были чужды проявления "теноровой" слащавости и сентиментализма, граничащих с дурновкусием.
ОНА ЕГО ЗА МУКИ ПОЛЮБИЛА...
Подавляющее большинство теноров в образе Отелло видят лишь несколько преображенный персонаж одной популярной веристкой оперы. Да, внешняя аналогия есть - схема драматической ситуации "Отелло" и "Паяцев" почти идентична: урод Тонио выполняет функции Яго, а выяснение отношений Недды и Канио, как и в конфликте Отелло и Дездемоны, приводят к трагической развязке. В обеих операх побудительной основой развития сюжета является тема супружеской неверности. Так Отелло на глазах изумленной публики становится похожим, как две капли воды, на ревнивца Канио, а масштаб шекспировской трагедии низводится до уровня бытовой, но душераздирающей мелодрамы. Допустимо ли это, ведь природа ревности двух этих оперных персонажей различна?
В конце концов, что есть ревность? Порок, страсть, сродни навязчивой идее, почти наваждение или чувство, непременно сопутствующее любви ("не ревнует - значит, не любит"), болезненная реакция человека на поведение другого, близкого ему? А может быть - все вместе? Ведь не случайно "отец психоанализа" Зигмунд Фрейд считал ревность врожденным чувством. В основе его теории - неосознанная ревность ребенка к отцу, со временем приобретающая маниакальные качества "эдипова коплекса".
В конце концов, что есть ревность? Порок, страсть, сродни навязчивой идее, почти наваждение или чувство, непременно сопутствующее любви ("не ревнует - значит, не любит"), болезненная реакция человека на поведение другого, близкого ему? А может быть - все вместе? Ведь не случайно "отец психоанализа" Зигмунд Фрейд считал ревность врожденным чувством. В основе его теории - неосознанная ревность ребенка к отцу, со временем приобретающая маниакальные качества "эдипова коплекса".
"Навек я твой, моя Кармен!"
 По поводу оперы Бизе "Кармен" существует, как правило, два мнения: она либо "обожаема", либо - нелюбима.
По поводу оперы Бизе "Кармен" существует, как правило, два мнения: она либо "обожаема", либо - нелюбима. По поводу записей этой оперы и солистов - мнений гораздо больше.
О своём взгляде на эту оперу, о "знакомстве" с ней и любимой записи рассказывает Юрий Шалыт.
Опера "Кармен" - загадка для ее поклонников и толкователей. Даже первоначальный замысел Бизе оказался бесконечно далек от его итогового воплощения; "Кармен" была задумана, как легкомысленная оперетка. Автор преобразил бытовые коллизии оперы, придав им масштабность высокой трагедии. А его героиня навсегда стала символом гордой, своенравной Красоты, Свободы и роковой страсти.
Черты Кармен, словно в отражении мистических зеркал, мы находим в поэтических литературных шедеврах XX века. Именно опера Бизе (а не новелла Мериме) стала источником вдохновения для двух великих русских поэтов: герой известного поэтического цикла Блока, подобно своему оперному прототипу, самозабвенно подчиняется властному обаянию Кармен.
ЗАМЕТКИ ХИРУРГА
Из цикла "Тусклые беседы" (Ювенильная тетрадь)
Итак, господа, я растерянно открываю вместе с вами сегодняшнюю газету и бегло окидываю её усталым взором. Все пишут, пишут, и кто о чём... А вот я, простите, всё о том же! Сегодня я продолжаю наболевшую для всех нас тему, которую, конечно, следовало бы назвать "Физиология и фоноскопия". Следовало бы - но увы, не удалось. Сегодня статья называется "Заметки хирурга", и вот послушайте, почему:
Недели три назад, роясь в ящике стола одного крупного чиновника от военно-медицинской науки, я совершенно случайно наткнулся на пожелтевшую ученическую тетрадь в клеточку, исписанную широким размашистым почерком. Это были старые черновики диссертации одного известного врача - вернее сказать, хирурга. Имя врача этого, по фамилии Вендельштерн, я сейчас называть не стану по вполне понятным причинам. Стоит ли, уже через много лет, зря беспокоить оставшихся ещё в живых родственников и друзей его! Назовём его, к примеру, просто С. Итак, хирург С. Вендельштерн.
Итак, господа, я растерянно открываю вместе с вами сегодняшнюю газету и бегло окидываю её усталым взором. Все пишут, пишут, и кто о чём... А вот я, простите, всё о том же! Сегодня я продолжаю наболевшую для всех нас тему, которую, конечно, следовало бы назвать "Физиология и фоноскопия". Следовало бы - но увы, не удалось. Сегодня статья называется "Заметки хирурга", и вот послушайте, почему:
Недели три назад, роясь в ящике стола одного крупного чиновника от военно-медицинской науки, я совершенно случайно наткнулся на пожелтевшую ученическую тетрадь в клеточку, исписанную широким размашистым почерком. Это были старые черновики диссертации одного известного врача - вернее сказать, хирурга. Имя врача этого, по фамилии Вендельштерн, я сейчас называть не стану по вполне понятным причинам. Стоит ли, уже через много лет, зря беспокоить оставшихся ещё в живых родственников и друзей его! Назовём его, к примеру, просто С. Итак, хирург С. Вендельштерн.

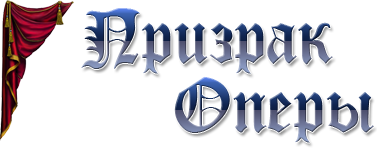
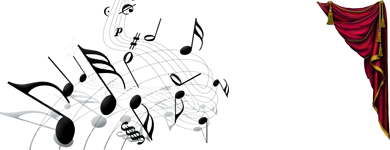
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка