И. И. Соллертинский#3
Второе требование: не должно быть никаких побочных эпизодов, никаких второстепенных действующих лиц.
Не надо забывать, что оперное амплуа не вполне совпадает с амплуа драматического театра. В драматическом театре есть амплуа резонера, который излагает мысли автора. Стародум у Фонвизина слишком неинтересен для современного зрителя, но его просветительские тирады очень звучны и в XVIII веке звучали очень актуально.
Шиллеровский маркиз Поза также не весьма действенен, но его монологи с призывами к гуманности, терпимости, свободе звучали по-боевому. В опере же фигура резонера – это мертвое место, ибо в резонере всегда много того интеллектуализма, который в опере не может быть воплощен.
Не надо забывать, что оперное амплуа не вполне совпадает с амплуа драматического театра. В драматическом театре есть амплуа резонера, который излагает мысли автора. Стародум у Фонвизина слишком неинтересен для современного зрителя, но его просветительские тирады очень звучны и в XVIII веке звучали очень актуально.
Шиллеровский маркиз Поза также не весьма действенен, но его монологи с призывами к гуманности, терпимости, свободе звучали по-боевому. В опере же фигура резонера – это мертвое место, ибо в резонере всегда много того интеллектуализма, который в опере не может быть воплощен.
И. И. Соллертинский. ДРАМАТУРГИЯ ОПЕРНОГО ЛИБРЕТТО#3
Второе требование: не должно быть никаких побочных эпизодов, никаких второстепенных действующих лиц.
Не надо забывать, что оперное амплуа не вполне совпадает с амплуа драматического театра. В драматическом театре есть амплуа резонера, который излагает мысли автора. Стародум у Фонвизина слишком неинтересен для современного зрителя, но его просветительские тирады очень звучны и в XVIII веке звучали очень актуально.
Шиллеровский маркиз Поза также не весьма действенен, но его монологи с призывами к гуманности, терпимости, свободе звучали по-боевому. В опере же фигура резонера – это мертвое место, ибо в резонере всегда много того интеллектуализма, который в опере не может быть воплощен.
Не надо забывать, что оперное амплуа не вполне совпадает с амплуа драматического театра. В драматическом театре есть амплуа резонера, который излагает мысли автора. Стародум у Фонвизина слишком неинтересен для современного зрителя, но его просветительские тирады очень звучны и в XVIII веке звучали очень актуально.
Шиллеровский маркиз Поза также не весьма действенен, но его монологи с призывами к гуманности, терпимости, свободе звучали по-боевому. В опере же фигура резонера – это мертвое место, ибо в резонере всегда много того интеллектуализма, который в опере не может быть воплощен.
ГЛАВА 12. "ОТЕЛЛО"#9
Конечно, если бы Эмилия предостерегла Дездемону, все течение драмы резко изменилось бы, и мы не дождались бы финальной трагедии. Так что Эмилия должна оставаться трусливой и малодушной. Но она, безусловно, на ступеньку выше, чем Джиованна в "Риголетто", - по крайней мере хоть не берет денег за предательство.
Мне кажется, Эмилия немного старше, чем Яго, непритязательна и не особенно привлекательна. Скорее всего, для нее когда-то большим событием явилось то, что красивый молодой человек женился на ней. Может быть, именно этим частично объясняется ее терпимость по отношению к недостойным проделкам Яго. Впрочем, Эмилия знает слишком много, что дает ей основания по-настоящему бояться мужа.
Мне кажется, Эмилия немного старше, чем Яго, непритязательна и не особенно привлекательна. Скорее всего, для нее когда-то большим событием явилось то, что красивый молодой человек женился на ней. Может быть, именно этим частично объясняется ее терпимость по отношению к недостойным проделкам Яго. Впрочем, Эмилия знает слишком много, что дает ей основания по-настоящему бояться мужа.
И. И. Соллертинский#4
Далее я хотел бы остановиться на проблеме арии. Наши оперные драматурги и композиторы зачастую склонны рассматривать арию просто как песню, обладающую лирической силой, но не имеющую прямого отношения к действию. Такая песня не раскрывает ситуации, не дорисовывает характера.
Само собой разумеется, что песенка герцога в “Риголетто” – это не просто эффектная бисовая ария. Песенка герцога есть прежде всего метод характеристики. И очень любопытно, что Верди при жизни резко возражал против исполнения этой арии на концертной эстраде, указывая на то, что это не самодовлеющий номер, а штрих в портретной характеристике герцога – ренессансного эпикурейца.
Само собой разумеется, что песенка герцога в “Риголетто” – это не просто эффектная бисовая ария. Песенка герцога есть прежде всего метод характеристики. И очень любопытно, что Верди при жизни резко возражал против исполнения этой арии на концертной эстраде, указывая на то, что это не самодовлеющий номер, а штрих в портретной характеристике герцога – ренессансного эпикурейца.
И. И. Соллертинский. ДРАМАТУРГИЯ ОПЕРНОГО ЛИБРЕТТО#4
Далее я хотел бы остановиться на проблеме арии. Наши оперные драматурги и композиторы зачастую склонны рассматривать арию просто как песню, обладающую лирической силой, но не имеющую прямого отношения к действию. Такая песня не раскрывает ситуации, не дорисовывает характера.
Само собой разумеется, что песенка герцога в “Риголетто” – это не просто эффектная бисовая ария. Песенка герцога есть прежде всего метод характеристики. И очень любопытно, что Верди при жизни резко возражал против исполнения этой арии на концертной эстраде, указывая на то, что это не самодовлеющий номер, а штрих в портретной характеристике герцога – ренессансного эпикурейца.
Само собой разумеется, что песенка герцога в “Риголетто” – это не просто эффектная бисовая ария. Песенка герцога есть прежде всего метод характеристики. И очень любопытно, что Верди при жизни резко возражал против исполнения этой арии на концертной эстраде, указывая на то, что это не самодовлеющий номер, а штрих в портретной характеристике герцога – ренессансного эпикурейца.
ГЛАВА 12. "ОТЕЛЛО"#10
Отелло по натуре предан и честен и наивно верит в честность окружающих. Каждая мысль, каждый жест Отелло отмечены природной добротой и религиозностью. Во время первого выхода он с победительным видом, преодолев опасности бушующего моря, появляется на сцене и произносит знаменитое "Честь и слава!" - это молитва и благодарность небесам. Затем он спешит к Дездемоне. Его любовь - эго экстаз, но присущая ему чувствительность вливает в любовь чистоту, которая сдерживает страсть и придает ей оттенок невинности.
Когда Отелло возвращается на сцену в гневе из-за вспыхнувшей там ссоры, он действует очень быстро и резко, как и подобает в критических обстоятельствах. Затем, когда все покидают подмостки, он не оборачивается, однако всем существом ощущает приближение своей прекрасной белой богини. Отелло чувствует ее руки на своих плечах и в одной из самых красивых фраз оперы: "Кончился день тревожный" - как бы молит простить его за недавний взрыв ярости.
Когда Отелло возвращается на сцену в гневе из-за вспыхнувшей там ссоры, он действует очень быстро и резко, как и подобает в критических обстоятельствах. Затем, когда все покидают подмостки, он не оборачивается, однако всем существом ощущает приближение своей прекрасной белой богини. Отелло чувствует ее руки на своих плечах и в одной из самых красивых фраз оперы: "Кончился день тревожный" - как бы молит простить его за недавний взрыв ярости.
И. И. Соллертинский#5
Перехожу к проблеме жанров. У нас до сих пор нет ясного разграничения между мелодрамой и подлинной философской трагедией.
Если перефразировать известное выражение Аристотеля о страхе и сострадании, то мелодрама отличается от трагедии тем, что в ней присутствует только страх или только сострадание***. Возьмем сцену из “Тихого Дона” Дзержинского: у героини умирает ребенок, а в это время ее насилует барин. Это мелодраматическая ситуация. Здесь характер героини не имеет значения; решающую роль играет только отчаянное “ситуационное” положение.
Те, кто защищают мелодраму в противовес трагедии, обычно сомневаются, мыслимо ли подлинно советское произведение, которое будет заканчиваться трагической гибелью героя? Совместимо ли это с оптимизмом?
Если перефразировать известное выражение Аристотеля о страхе и сострадании, то мелодрама отличается от трагедии тем, что в ней присутствует только страх или только сострадание***. Возьмем сцену из “Тихого Дона” Дзержинского: у героини умирает ребенок, а в это время ее насилует барин. Это мелодраматическая ситуация. Здесь характер героини не имеет значения; решающую роль играет только отчаянное “ситуационное” положение.
Те, кто защищают мелодраму в противовес трагедии, обычно сомневаются, мыслимо ли подлинно советское произведение, которое будет заканчиваться трагической гибелью героя? Совместимо ли это с оптимизмом?
И. И. Соллертинский. ДРАМАТУРГИЯ ОПЕРНОГО ЛИБРЕТТО#5
Те, кто защищают мелодраму в противовес трагедии, обычно сомневаются, мыслимо ли подлинно советское произведение, которое будет заканчиваться трагической гибелью героя? Совместимо ли это с оптимизмом?
При этом путают оптимизм философский с оптимизмом фабульным. “Кармен” заканчивается трагической гибелью и Кармен, и Хосе. Однако, когда в последний раз прозвучит фа-диез-мажорный аккорд, никто из нас не уносит из театра ощущения безысходной скорби. Когда гибнет Гамлет на руках Горацио, когда звучит траурный марш из “Гибели богов”, когда гибнут Ромео и Джульетта, – у зрителя не возникает ощущения пессимистической безвыходности, ибо фабульная трагическая развязка здесь соединена с глубоким философским оптимизмом. Да, герои гибнут, но гибнут ради торжества общего дела, ради торжества новых нравственных принципов.
При этом путают оптимизм философский с оптимизмом фабульным. “Кармен” заканчивается трагической гибелью и Кармен, и Хосе. Однако, когда в последний раз прозвучит фа-диез-мажорный аккорд, никто из нас не уносит из театра ощущения безысходной скорби. Когда гибнет Гамлет на руках Горацио, когда звучит траурный марш из “Гибели богов”, когда гибнут Ромео и Джульетта, – у зрителя не возникает ощущения пессимистической безвыходности, ибо фабульная трагическая развязка здесь соединена с глубоким философским оптимизмом. Да, герои гибнут, но гибнут ради торжества общего дела, ради торжества новых нравственных принципов.
ГЛАВА 12. "ОТЕЛЛО"#11
Ко второму акту Отелло уже изменился - Яго успел влить в его душу первые ядовитые капли. Вначале Отелло еще осторожен и держит себя в руках; затем он становится все более напряженным, нервным и стремительными шагами приближается к кульминации - финальной клятве. Он уже стал жертвой Яго и, заключая с ним адский союз, попадает под власть Яго без всякой надежды на спасение. Человек, который существовал в первом действии, исчез, его былой облик проступает лишь в нескольких, очень кратких эпизодах. Этот человек потерян.
Постыдное поведение Отелло в сцене с венецианским посольством свидетельствует о страшном нервном потрясении - в противном случае его следовало бы арестовать. Однако драма требует своего логического конца, предрешенного и неизбежного. Отелло - жертва слепой магии, сковывающей и ум и сердце. Его словно ведет какая-то ужасная отрицательная сила - вплоть до того момента, когда он убивает Дездемону.
Постыдное поведение Отелло в сцене с венецианским посольством свидетельствует о страшном нервном потрясении - в противном случае его следовало бы арестовать. Однако драма требует своего логического конца, предрешенного и неизбежного. Отелло - жертва слепой магии, сковывающей и ум и сердце. Его словно ведет какая-то ужасная отрицательная сила - вплоть до того момента, когда он убивает Дездемону.
И. И. Соллертинский#6
Слишком примитивен, слишком обеднен показ больших положительных героев в наших операх о Разине, Пугачеве, Болотникове. Слишком много они резонерствуют, произносят отвлеченные, не согретые эмоциональным огнем монологи и тирады. Поэтому судьба таких героев в оперном преломлении не слишком волнует зрителей, и когда этих героев ведут на казнь, то зритель, не успевший или не сумевший полюбить схематический образ героя, испытывает, так сказать, теоретическое сострадание; жаль не человека, а “движущую силу исторического процесса”!
Из этого не следует, что нужно, изображая Чапаева или Котовского, наделять их маленькими человеческими недостатками. Нужно показать характер героя в движении, в росте, в действии, показать так, как показал Чапаева Фурманов, т. е. дать становление советского героя.
Из этого не следует, что нужно, изображая Чапаева или Котовского, наделять их маленькими человеческими недостатками. Нужно показать характер героя в движении, в росте, в действии, показать так, как показал Чапаева Фурманов, т. е. дать становление советского героя.

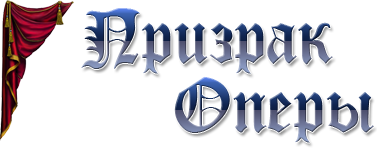
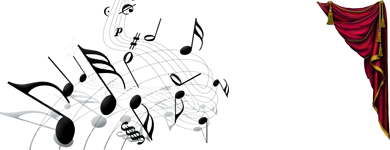
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка