Агния Лазовская
 Блестящее сопрано медсестры
Блестящее сопрано медсестры"Вас ведь предупреждали, что без высшего музыкального образования в театр не возьмут?" - повторил директор театра оперы и балета им. С. М. Кирова. И Агнии вдруг показалось, что эти слова будут преследовать её всю жизнь. "Да не могу я взять вас в театр, не имею права!" - будто бы самого себя убеждал Асланов, а на столе лежал вердикт комиссии: "Блестящее лирико-колоратурное сопрано… имеет право работать в театре", подписанный выдающимися музыкантами - Преображенской, Пазовским, Андреевым, Нэлеппом. Позже она узнала, что именно Павел Захарович Андреев сумел-таки настоять на ее приеме в театр…
Агния Каракосова родилась в Петербурге 12 декабря 1907 года. В доме словно колокольчики развесили - с утра до вечера звенел легкий голосок. Но родители, придерживающиеся консервативных взглядов, не могли и представить, чтобы младшая дочь стала артисткой. А она, дожидаясь занятий в школьном хоре, по слуху пела понравившиеся оперные арии, и на церковных службах - семья жила около церкви Михаила Архангела - с замирающим сердцем наблюдала, как красиво дирижировал хором прославленный баритон академической оперы Николай Куклин. Скоро под церковными сводами зазвучит и её голос…
Повзрослев, Агния закончила медтехникум, вышла замуж за врача Лазовского, устроилась медсестрой на фабрику им. Самойловой. "Ваш голос поставлен от природы!" - сказал ей руководитель фабричной самодеятельности, известный в прошлом солист Мариинского театра Александр Смирнов. И начал разучивать с Агнией дуэты из опер Верди и Доницетти. В жизни наступали кардинальные изменения. В 1938 году обладательницу первой премии городской олимпиады художественной самодеятельности направляют в Москву на конкурс "Лучшая самодеятельность СССР" - и вновь победа.
Самоварный блеск "золотого" сопрано
 В минувшее воскресенье ежегодный фестиваль «Дворцы Петербурга» завершился эффектной кодой: концертом американской оперной дивы, сопрано Рене Флеминг. В США певица рекламируется довольно агрессивно, эксклюзивную приму звукозаписывающей компании «Decca» там часто именуют «золотым стандартом сопрано» и прочими броскими эпитетами. Теперь же питерские меломаны – точнее говоря, та их часть, что сумела купить или «достать» билеты в арендованный по такому случаю фестивалем Михайловский театр – смогли составить о певице собственное мнение.
В минувшее воскресенье ежегодный фестиваль «Дворцы Петербурга» завершился эффектной кодой: концертом американской оперной дивы, сопрано Рене Флеминг. В США певица рекламируется довольно агрессивно, эксклюзивную приму звукозаписывающей компании «Decca» там часто именуют «золотым стандартом сопрано» и прочими броскими эпитетами. Теперь же питерские меломаны – точнее говоря, та их часть, что сумела купить или «достать» билеты в арендованный по такому случаю фестивалем Михайловский театр – смогли составить о певице собственное мнение. Программу первого отделения (две арии Манон из оперы Пуччини «Манон Леско» и ещё две арии Манон, но уже из «Манон» Жюля Массне) можно было бы назвать изящной, если бы не увертюра к оперетте Оффенбаха «Орфей в аду», непонятно с какого перепугу вклинившаяся в оперную программу.
Нельзя не отметить и другое: подобные концерты уже давно стали «обязательными мероприятиями» для той части публики, которую мы привычно зовём «новыми русскими».
ВСПОМИНАЯ ЛЮБУ ВЕЛИЧ
 "Я не немецкая пейзанка, а сексуальная болгарка", - как-то игриво сказала сопрано Люба Велич, отвечая на вопрос, почему она никогда не пела Вагнера. Этот ответ - не самолюбование знаменитой певицы. Он точно отражает не только ее самоощущение, но и восприятие её публикой в Европе и Америке: как единственную в своем роде богиню чувственности на оперном олимпе. Ее темперамент, ее открытая экспрессия, сумасшедшая энергетика, своего рода квинтэссенция музыкально-драматического эротизма, которой она одаривала зрителя-слушателя сполна, оставили о ней память, как об уникальном явлении в мире оперы.
"Я не немецкая пейзанка, а сексуальная болгарка", - как-то игриво сказала сопрано Люба Велич, отвечая на вопрос, почему она никогда не пела Вагнера. Этот ответ - не самолюбование знаменитой певицы. Он точно отражает не только ее самоощущение, но и восприятие её публикой в Европе и Америке: как единственную в своем роде богиню чувственности на оперном олимпе. Ее темперамент, ее открытая экспрессия, сумасшедшая энергетика, своего рода квинтэссенция музыкально-драматического эротизма, которой она одаривала зрителя-слушателя сполна, оставили о ней память, как об уникальном явлении в мире оперы. Люба Величкова родилась 10 июля 1913 г. в болгарской провинции, в небольшом селении Славяново, что неподалеку от крупнейшего порта страны Варны - после первой мировой войны городок был переименован в Борисово в честь тогдашнего болгарского царя Бориса III, поэтому в большинстве справочников указано именно это название в качестве родины певицы. Родители Любы - Ангел и Рада - происходили из Пиринского края (юго-запад страны), имели македонские корни.
Музыкальное образование будущая певица начала еще в детстве, обучаясь игре на скрипке. По настоянию родителей, желавших дать дочери "серьезную" специальность, изучала философию в Софийском университете, параллельно пела в хоре столичного кафедрального собора Александра Невского. Однако тяга к музыке и артистические способности все-таки привели будущую певицу в Софийскую консерваторию, где она училась в классе профессора Георгия Златева. Учась в консерватории, Величкова пела в хоре Софийской оперы, здесь же состоялся ее дебют: в 1934 г. она спела маленькую партию продавщицы птиц в "Луизе" Г. Шарпантье; второй ролью стал царевич Федор в "Борисе Годунове" М. П. Мусоргского, причем в титульной роли в тот вечер выступал знаменитый гастролер - великий Шаляпин.
Аргентинский "священник" причастил петербуржцев
 В Петербурге состоялся первый концерт звезды мировой оперы, аргентинского тенора Хосе Куры. Почему же поклонники оперы после концерта вспоминали бочку мёда с ложкой дёгтя?
В Петербурге состоялся первый концерт звезды мировой оперы, аргентинского тенора Хосе Куры. Почему же поклонники оперы после концерта вспоминали бочку мёда с ложкой дёгтя? Первое, о чём говорили все меломаны, которым посчастливилось попасть на концерт знаменитого аргентинца - это обман. "На афишах было написано "Гала-концерт Хосе Куры" - а вместо этого нам подсунули концерт солистов Михайловского при участии знаменитого тенора!" - примерно так можно выразить суть всех претензий. Безосновательными их не назовёшь: за весь концерт Кура спел четыре сольных фрагмента и один дуэт. Зато солисты, хор и оркестр Михайловского были представлены в изобилии почти чрезмерном. Практически весь первый акт как будто бы шла репетиция грядущей постановки "Паяцев": на сцене без декораций пребывал хор без костюмов, одетый пёстро и буднично, "по гражданке". Повседневная одежда как будто иллюстрировала "рабочее" состояние этой партитуры: оркестр играл "не вместе" и грязно, хор пел вразброд и нестройно.
В начале первого отделения Хосе Кура спел баритоновый "Пролог" из "Паяцев", сразу показав публике, что и на середине, и в нижнем регистре его голос звучит вполне богато и очень наполненно. Затем довольно долго демонстрировал своё неблагополучие хор, после чего арию Недды спела Светлана Мончак - обладательница очень хорошего лёгкого сопрано.
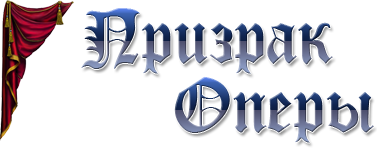
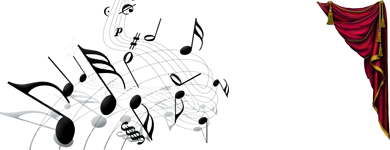
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка