Юрий Гуляев
 - жизнь - вечное преодоление
- жизнь - вечное преодоление"…Как ужасно непростительно мы в будничной суете невнимательны друг к другу", - писала И. К. Архипова, вспоминая о Юрии Гуляеве. И действительно, сейчас, по прошествии уже нескольких лет после его ухода, с особенной болью и остротой думается: почему же со столь угнетающе-неизменной закономерностью не получается воздать Артисту должное при жизни? Почему невозможно сделать это по-настоящему, сердцем и душой, не в виде ставших почти обязательными панегириков со стороны критики и знатоков вокала, не принимая во внимание многочисленные награды и регалии?
Значительные достижения большого художника мы по своему существу воспринимаем как некую данность, закономерность их творческого бытия, подчас не задумываясь о заплаченной за них цене. И если говорить о Гуляеве, то весь облик певца - светлый, наполненный особой, магически притягивающей харизматичностью - совершенно не ассоциируется с резкими изломами его очень непростой судьбы.
Путь его восхождения был отнюдь не гладок. Поступив в Свердловскую консерваторию (вначале даже не на основной курс) лишь после года учебы в медицинском институте, без сомнения способный студент в течение без малого четырех (!) лет балансировал на грани баритона и тенора, оказавшись в итоге… под угрозой отчисления. Видимо, голос будущего вокалиста продолжал, еще не вполне устоявшись, меняться. Не сразу и далеко не безболезненно возвратилось все "на круги своя"; потребовались годы, чтобы пришла истинная, широкая, "гуляевская" кантилена. Что же касается голосовых качеств как таковых, то и на сегодняшний день вопрос этот не так прост и не вполне однозначен. С точки зрения специалиста этот голос может быть определен, хотя и с некоторыми оговорками, как лирический баритон.
 Вместе с тем одна из первых партий артиста в Свердловском театре оперы и балета была теноровой (Молодой цыган в "Алеко" С. В. Рахманинова), а на компакт-дисках с его записями, издаваемых за рубежом, нередко после фамилии стоит слово "bass".
Вместе с тем одна из первых партий артиста в Свердловском театре оперы и балета была теноровой (Молодой цыган в "Алеко" С. В. Рахманинова), а на компакт-дисках с его записями, издаваемых за рубежом, нередко после фамилии стоит слово "bass". И при этом оба последних взгляда на подобный голосовой феномен не лишены определенных оснований. В пользу первой точки зрения свидетельствует унаследованная от невероятно высокого мальчишеского дисканта редкая полетность и свобода верхних нот (поэтому в годы учебы нельзя было не прислушиваться к мнениям опытных педагогов и не учитывать их колебания и сомнения); второе же суждение базируется на полнозвучности крайних низких нот, а также на тембровой насыщенности. Однако не стоит много заниматься музыковедческими изысками; здесь это не очень благодарная задача - пусть каждый сам для себя подберет наиболее подходящее, по его мнению, определение для гуляевского голоса. Ясно одно: это один из тех действительно уникальных голосов, что не втискивается в прокрустово ложе во многом спорных классификаций; голос с настоящим и редким "талантом тембра" (Ю. Кочнев). Что ж - истинное величие никак не поддается ни точным логическим определениям, ни тем более усредняющей схематизации.
С течением времени благодаря таланту, упорству, самосовершенствованию и - не в последнюю очередь - простому человеческому взаимопониманию Юрий Гуляев утверждался в качестве баритона, еще до окончания обучения - с 1954 года - начав выступать на сцене Свердловской (ныне Екатеринбургской) оперы. Постепенно, но уверенно входил молодой вокалист в баритоновый репертуар, начиная с Моралеса в "Кармен" и доходя до Елецкого в "Пиковой даме", Валентина в "Фаусте", - партий, которые потом будут спеты им в Большом театре и в которых ему откроются действительно большие высоты.
 …Новый этап в жизни и творчестве Гуляева - "украинский", продлившийся без малого 20 лет. Он становится в 1956 году солистом Донецкого оперного театра, где впервые поет россиниевского Фигаро, Жермона, Онегина, осваивая новое творческое пространство. 1959 год становится памятным благодаря победе на соревновании вокалистов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Вене - 29-летний Юрий Гуляев получил золотую медаль. В. В. Барсова, входившая в жюри отборочного прослушивания претендентов на поездку в австрийскую столицу, сказала о нем буквально следующее: "Это будущий великий певец". А ведь тогда, в отличие от сегодняшней реальности, подобные определения и эпитеты вовсе не было принято употреблять неоправданно широко, едва ли не разбрасываясь ими. Тогда эти слова Мастера тем более походили на начинавшееся сбываться пророчество.
…Новый этап в жизни и творчестве Гуляева - "украинский", продлившийся без малого 20 лет. Он становится в 1956 году солистом Донецкого оперного театра, где впервые поет россиниевского Фигаро, Жермона, Онегина, осваивая новое творческое пространство. 1959 год становится памятным благодаря победе на соревновании вокалистов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Вене - 29-летний Юрий Гуляев получил золотую медаль. В. В. Барсова, входившая в жюри отборочного прослушивания претендентов на поездку в австрийскую столицу, сказала о нем буквально следующее: "Это будущий великий певец". А ведь тогда, в отличие от сегодняшней реальности, подобные определения и эпитеты вовсе не было принято употреблять неоправданно широко, едва ли не разбрасываясь ими. Тогда эти слова Мастера тем более походили на начинавшееся сбываться пророчество.И вот совсем скоро - еще одна, новая ступень восхождения и новая высота, Киевский театр оперы и балета имени Т. Г. Шевченко. Здесь его ожидало не простое "повторение пройденного", но происходящее на еще более высоком уровне общение с товарищами по творчеству, среди которых Е. Чавдар, Б. Гмыря, Л. Руденко, Е. Червонюк, Б. Руденко, В. Третьяк, "голосовые" коллеги Д. Гнатюк, А. Мокренко и многие другие. С этим периодом очень много будет связано у Юрия Александровича. Это и свыше десяти оперных партий, в числе которых те же Фигаро, Валентин (прошедший, кстати сказать, с Гуляевым от Донецкой оперы до Большого) и так и не увиденный, к огромному сожалению, москвичами Папагено из "Волшебной флейты" В. А. Моцарта. Это - концертные программы, работа в студиях грамзаписи, звание народного артиста СССР в то время, когда им не был перейден еще сорокалетний рубеж. А еще, может быть, самое главное, - первый выход на сцену главного театра страны в 1971 году…
В том спектакле Гуляев предстал перед слушателями Онегиным; Татьяну пела Г. Вишневская, Ленского - А. Масленников, Ольгу - совсем молодая Т. Синявская. Оркестр же возглавлял М. Ростропович. Через 4 года, в 1975-м, сцена Большого станет для Юрия Гуляева родной. "Официальным" же его дебютом станет еще одна знаковая роль - все тот же Фигаро в "Севильском цирюльнике" Дж. Россини, без преувеличения выведший своего интерпретатора на принципиально новый виток творческой жизни. Здесь наряду с традиционной и уже отточенной классикой ожидал его совсем новый материал, совсем другие характеры - Тараш в "Похищении луны" О. Тактакишвили, Рамиро в "Испанском часе" М. Равеля, Дон Карлос в "Обручении в монастыре" С. Прокофьева…
Об отношениях Гуляева с коллегами по новому вокальному цеху сейчас судить трудно; кроме того, этика не позволяет подробно обсуждать вопросы подобного рода. Однако, как думается, в тот непростой временной период не было абсолютной ровности и спокойствия: помимо чисто человеческой стороны могли сказываться различие творческих установок, сформировавшихся подходов, что было вполне естественным. И тогда приходилось вновь и вновь преодолевать себя, в несчетный раз что-то доказывать себе самому, принимая для себя одни истины и отметая другие.
…Послушаем, наконец, теперь самого Гуляева - оставленные им записи, вспомним его спектакли и всмотримся в созданные им сценические образы, ибо при всей многогранности своего таланта он - прежде всего служитель Великой Оперы. В соперничестве, пусть и негласном, заочном, со многими другими первоклассными баритонами ему приходилось, надо полагать, весьма нелегко. Нельзя, невозможно было просто идти проторенными путями - бесспорно правильными, но открытыми уже однажды кем-то другим. Что же открывает он нам в том или ином персонаже, что именно хочет сказать и показать нам? Попробуем рассмотреть, расслышать и попытаться это понять. Сам певец, по его собственному признанию, любил представить, "…"показать" весь характер сразу", в целом. Однако это не означало, что исполнитель "обрушивался" на слушателя, не давая ему возможности и вникнуть в происходящее на сцене. Скорее всего, речь могла идти о намерении с самого начала обозначить и выделить наиболее важные черты персонажа, основополагающие моменты роли с целью показать их в дальнейшем развитии.
Вот Жермон - лишенный напускной напыщенности, нарочитой важности, совершенно без внешнего лоска, даже почти без налета пресловутой "буржуазной морали" (если элементы последней и присутствуют, то скрыты где-то очень глубоко и сознательно не "выпускаются" наружу).
На первый план здесь выходит искренность во всем. Интонации в разговоре с Виолеттой - не надменно-пренебрежительные и менторские, а раняще-трогательные, уговаривающе-просительные, доходящие до самых глубинных закоулков души. В арии-монологе Гуляев-Жермон, не выговаривая, а умоляя и убеждая, обволакивает Альфреда такими безбрежными волнами мягчайшего, бархатного - и в то же время наполненного благородной эмоцией звука - что кажется, просто невозможно не послушаться, не внять, не поддаться.
И ошибался Жермон Гуляева в своем первоначальном отношении к Виолетте, как и в недооценке чувства своего сына к этой женщине - не предубежденно, а совершенно естественно - абсолютно искренне и никак иначе. Тем острее чувствуется осознание героем этой своей ошибки, тем контрастнее оттеняет эта искренность всю непоправимость происходящего, виновником которого - по крайней мере, отчасти - он с неумолимо-решительной определенностью и нарастающей внутренней твердостью себя ощущает.
В "Евгении Онегине" Гуляев - художник и психолог - не желая предлагать нам "музейного", "законсервированного" персонажа, всеми силами пытается подчеркнуть не условно-светское, если можно так сказать, а истинно человеческое начало.
И при этом опять - предельная искренность. В его объяснении в саду нет и тени намерения каким-либо образом нанести душевную рану Татьяне - он действительно исповедуется здесь, открывая перед ней свое сокровенное, отчего его попытки поучать выглядят даже наивно. Ариозо "Ужель та самая Татьяна" - готовая смести все на своем пути сила и стихия истинной страсти, а в заключительной сцене перед нами человек, для которого осталась лишь единственная, последняя надежда. С уходом ее не будет больше ничего и никого вокруг, потому что рухнет весь мир. Именно такое ощущение оставляют последние слова Онегина-Гуляева.
…Его Ренато из "Бал-маскарада" на сцене Большого увидеть не довелось - он выступал в этой партии лишь в театрах Донецка и Киева. Но, к счастью, есть запись арии "Eri tu…" из 3 действия, сделанная им с оркестром под управлением Б. Хайкина. Понятно, что Гуляев определенно не был вердиевским баритоном.
Но, с другой стороны, вовсе не обязательно, как сейчас это иногда делается, петь Ренато в псевдоверистской манере. Ария эта даже в "изолированном" виде не звучит фрагментом, концертным номером. Очень многое концентрируется здесь. Значение этого музыкального отрывка для общего смысла партии получается у Гуляева едва ли не равным значению "E lucevan de stelle…" для роли Каварадосси. И здесь хотелось бы мысленно пожелать тенорам так же спеть эту арию так, как Гуляев поет "Eri tu…" - не допуская голосового надрыва, но делая обязательным надрыв душевный, проступающий в особых надломленных, чуть-чуть "задыхающихся" интонациях на фоне значительной протяженности музыкальных фраз. Ренато находится в состоянии душевного опустошения и глубокой рефлексии, но при этом нисколько не озлоблен и не унижен - достоинство и благородство остались при нем как часть его характера, его личности.
 Пожалуй, Гуляева с полным основанием можно назвать одним из последних романтиков оперной сцены, представителем безвозвратно уходящего направления. Действительно, сейчас уже все реже и реже можно встретить столь благородный, в наилучшем смысле "пиететный" подход к сценическому воплощению глубинного психологизма героев, далекий и от мертвенно-застывшей схоластики, и от выхолащивающей прагматичности. Гуляев мог в том или ином случае увлекаться, импровизировать, но это не несло на себе печать стихийности и никак не означало выхода за рамки высокого профессионализма - всегда его музыкальный и артистический почерк оставался возвышенно-классичным, каллиграфическим по форме, передающим предельную напряженность и наполненность биения эмоционального пульса.
Пожалуй, Гуляева с полным основанием можно назвать одним из последних романтиков оперной сцены, представителем безвозвратно уходящего направления. Действительно, сейчас уже все реже и реже можно встретить столь благородный, в наилучшем смысле "пиететный" подход к сценическому воплощению глубинного психологизма героев, далекий и от мертвенно-застывшей схоластики, и от выхолащивающей прагматичности. Гуляев мог в том или ином случае увлекаться, импровизировать, но это не несло на себе печать стихийности и никак не означало выхода за рамки высокого профессионализма - всегда его музыкальный и артистический почерк оставался возвышенно-классичным, каллиграфическим по форме, передающим предельную напряженность и наполненность биения эмоционального пульса.Бесспорно, именно школа классического оперного пения дала Юрию Гуляеву, как и многим другим большим вокалистам, возможность чувствовать себя уверенно в таких жанрах, как песня и романс, - и классический, и старинный. Но это не было лишь одним ощущением уверенности. Недаром среди музыковедов употребительно выражение "концертный зал Гуляева". Что бы он ни пел, складывалось впечатление, что именно здесь он нашел себя, именно в этом его истинное призвание. Даже если принимать во внимание образцы камерного творчества мастеров более старшего поколения, трудно представить более совершенное - и вокально, и содержательно - исполнение "Соловья" и "Страшной минуты" Чайковского, "Фальшивой ноты" Бородина, "Азры" Рубинштейна и многих других. К этим романсам далеко не часто обращаются вокалисты, прежде всего из-за их неявной, скрытой, но нередко коварной непростоты. Здесь, безусловно, и заслуга концертмейстера - тонкой и проникновенной Розалии Трохман. А можно ли забыть песенный цикл "Созвездие Гагарина" Александры Пахмутовой! А песни, написанные им самим!.. И еще Юрий Александрович пел на украинском языке, словно на родном, - и не одни только народные песни, но и оперные арии и партии.
Каким образом могло получиться так, что не встретилось ни одной - по крайней мере, выполненной в студии и изданной официально, - полной оперной записи с его участием? Сейчас остается лишь недоумевать по этому поводу. К тому же многих партий он так и не спел. А как хотелось бы увидеть, например, его князя Игоря в историко-эпическом опусе Бородина, маркиза ди Позы в вердиевском "Дон Карлосе" - сколько еще партий для баритона можно назвать! Более того, при соответствующих постановочных подходах Гуляев мог бы, наверное, "примерить" на себя и некоторые из ролей, написанных для высокого баса - теперь об этом уже трудно говорить…
…Столь же непросто предположить, как пришлось бы его чуткой, тонко чувствующей натуре в нынешнее время. И все же сегодня мы однозначно воспринимаем Гуляева без малейшего налета историзма и архаичности. Очень многое делает для памяти этого замечательного человека Фонд русской классики его имени при активнейшем участии жены певца Ларисы Максимовны, незаменимая поддержка которой чувствовалась Юрием Александровичем многие годы, сына Юрия Гуляева-младшего, а также спонсорских организаций. Издаются записи, расширяется его дискография, выходят печатные материалы, - и если мы постоянно продолжаем узнавать об этом человеке нечто новое, то перед нами не кто иной, как наш настоящий современник.
© Юрий А. Никулин
Публикация: 23-05-2009
Просмотров: 11886
Категория: Вокалисты
Комментарии: 0

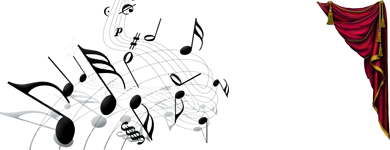
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка