Путник
 Е. А. Мравинский
Е. А. МравинскийПутем безначальным - в безвестном пути
Идет он: молчанье вокруг; впереди -
Предвечная Божия ночь.
Ложатся туманы росой на чело
И падают звезды беззвучно-светло.
Идет он, - свой путь превозмочь...
Он тихо идет, скорбен, нем и велик
И взор опустил и склонил бледный лик -
Лишь слезы блестят из-под век...
Путем безначальным, в безвестном пути
Идет он: молчанье вокруг, впереди...
И имя ему - Человек.
1925
Е.Мравинский
Автору этих поэтических строк всего 22 года. В них - осознание своего назначения, избранничества, тяжесть непосильного долга Служения, требовательное самоограничение на пути к Себе. В словах, идущих от сердца молодого музыканта, сокрыта музыка - "Иду в неведомый мне путь…" Конечно же, это танеевский образ Иоанна Дамаскина, возрожденного поэзией А. Толстого, чья возвышенная лирика вдохновила еще одного композитора, любимого будущим дирижером. Услужливая память тут же подсказывает строки гимна Чайковского странничеству, единению с Природой и преклонению пред нею: "Благословляю вас, леса…" В разные периоды многотрудного пути в творчестве Мастер снова и снова открывает в окружающей его красоте родной Земли новые, доселе незамеченные черты изменчивого пейзажа. Так и в искусстве, раскрывая давно изученную и многократно исполненную партитуру, дирижер, словно впервые, пытливо вглядывается в знакомый текст "вещи", постигая ее духовную ауру.
Явление Мравинского - плоть от плоти великой Петербургской культуры. В сокровищнице ее Даров Музыка Мастера навечно заняла свое почетное место, как и гармония творений Росси, пушкинские строки, фантазии Гоголя и Достоевского, патетическая лирика Чайковского. Истоки творчества Мравинского в этике многовекового духовного подвижничества русской религиозной философии, отмеченной единением с природой, похвалой пустынному одиночеству и молчаливому созерцанию. Отсюда - повышенная требовательность к себе и другим, неотступная императивность в достижении художественного идеала, воплощенного в звучании его оркестра. Именно поэтому Дирижера привлекают авторы, чье творчество отмечено высокой духовностью, соразмеренностью и сдержанностью в выражении эмоций. Ему чужда экзальтация и преувеличенная экспрессия. Малер, например, - не герой Мравинского. Попутчиком по тернистой дороге Жизни Мастер навсегда избирает Д. Д. Шостаковича. Вместе со своим другом Дирижер осмысливает и переживает трагические вехи истории отечества. Для Мравинского профессия - средство выражения миросозерцания. Концерт - ответственный исповедальный акт. Поэтому репетиционный период становится долгой дорогой ко второму рождению "вещи" - в звучании. Ничто не должно отвлекать, в зале Филармонии нет обычных наблюдателей "дирижерской кухни" - студентов и любопытствующих музыкантов. Бдительные стражи порядка, старушки-билетёрши, такие гостеприимно любезные перед вечерним концертом, утром, подобно вагнеровским драконам, надежно перекрывают подступы к залу: "Репетирует Евгений Александрович!".
Телефильмы Д. Рождественского сохранили для нас атмосферу репетиционного священнодействия. Мастер строг, сосредоточен и предельно лаконичен в своих замечаниях. Партитура давно озвучена им в сознании, остается только соотнести реальность с контурами идеального музыкального образа. Малейшее отклонение от исполнительского плана тут же фиксируется без раздражения и окрика, но категоричным негромким замечанием. Терпеливыми и расчетливыми повторениями фрагментов партитуры, ее более крупных разделов и частей, "черновое" исполнение доводится до совершенства. "Вечером" предстоит самое ответственное - материализация замысла.
Как-то один из бывших дирижеров-ассистентов Филармонии, Равиль Мартынов, передал слова Евгения Александровича: "Для меня лучшие условия концертного музицирования: когда вместо зала за моей спиной - стена". Да, концерт для Мастера - исповедальный акт, а для исповеди не нужны свидетели. Вслед за Чайковским дирижер мог бы повторить слова композитора: "Симфония - это исповедь души". Именно поэтому для своих выступлений, не столь частых, как нам хотелось бы, Мравинский был тщателен в строгом отборе произведений и композиторов. В свое время наша всеядность легкомысленной молодости требовала от дирижера постоянного обновления репертуара, мы долго не могли понять, почему Мравинский вновь и вновь обращается к одним и тем же названиям. Только потом нам стал ясен смысл высокого самоограничения художника: оно - в верном служении раз обретенным идеалам.
Быстротекущее время во многом девальвировало профессию дирижера. Некоторые из них сегодня становятся собственными менеджерами, ловкими коммерсантами от искусства, срывающими легкие цветы успеха и при этом мало озадачиваясь качеством своих выступлений. С уходом Мравинского Филармония и оркестр осиротели. Посещения Большого Зала постепенно утратили свой высокий смысл. А после того, как в юбилей нового главного дирижера в Священном зале Филармонии вместо привычных рядов стульев появились банкетные столики, а официанты из "Европейской" тут же разносили "горячее", это место стало окончательно оскверненным.
Эпоха Мравинского кончилась.
© Юрий Шалыт
Публикация: 9-07-2009
Просмотров: 4559
Категория: Персоналии
Комментарии: 0
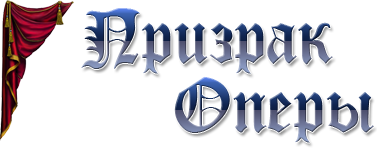
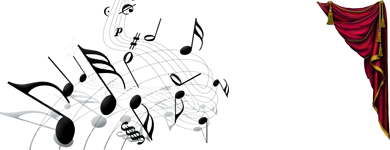
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка