Незабываемая Берта (воспоминания об Учителе)#8
 ...Так вот, когда играли ученики Берты, всегда был заметен их профессионализм во всем, аккуратность и чистота исполнения, замечательный вкус. Но все они были какие-то одинаковые; почти как "инкубаторские", без "своего лица", в то время, как ученики И. И. Каца заметно отличалсь друг от друга, чувствовалась индивидуальность, их интересней было слушать - несмотря на то, что в профессиональном и техническом отношении, и в исполнительском классе, так сказать, они явно уступали ученикам Берты. В чем же дело, почему так происходило, спрашивал я себя?
...Так вот, когда играли ученики Берты, всегда был заметен их профессионализм во всем, аккуратность и чистота исполнения, замечательный вкус. Но все они были какие-то одинаковые; почти как "инкубаторские", без "своего лица", в то время, как ученики И. И. Каца заметно отличалсь друг от друга, чувствовалась индивидуальность, их интересней было слушать - несмотря на то, что в профессиональном и техническом отношении, и в исполнительском классе, так сказать, они явно уступали ученикам Берты. В чем же дело, почему так происходило, спрашивал я себя? Стал анализировать, задумываться над этим, и пришел к неприятному выводу, возможно и неверному: Берта нас иногда... зажимала, не давала раскрыться полностью, часто даже просто давила психологически, мы очень боялись играть по-своему, жутко опасаясь ее раздраженного сопротивления, крика. Она, безусловно, всегда говорила нам правильные вещи, воспитывала идеальный вкус в исполнении, однако часто, когда мы пыталсь сыграть по-своему, так сказать, то натыкались на стену непонимания, несогласия. Хотелось выразить свое, сокровенное, но Берта... не разрешала, если это противоречило ее вкусу, музыкальному слуху, взглядам...
И надо отметить, что долгое время после консерватории я не мог отделаться от этого психологического гнета, установленных ею рамок при исполнении музыкальных произведений. Берта, естественно, желала всем нам только добра, старалась научить играть, как можно лучше, никогда для этого не жалела времени, ни разу не смотрела на часы, но очевидно, в какой-то момент слишком "перегибала палку", страхуясь от неверного (на ее взгляд) исполнения, создавая психологическое давление и убеждая, что нужно играть только так, и не иначе.
А конфликт наш с ней произошел где-то на четвёртом курсе, когда я играл Восьмую Сонату Прокофьева. Берта патологически не выносила слишком медленных темпов, ей все время во всем хотелось движения, естественности. Но первую часть Сонаты я слышал - и стремился играть - в своем, более медленном темпе; эту глубокую и величественную музыку мне хотелось спокойно рассказать, донести каждую интонацию, полюбоваться гармониями, красотой музыки.
Восьмая Соната Прокофьева до сих пор у меня является самой любимой из всех его сонат, на мой взгляд это лучшая Соната ХХ века, стоящая, может быть, на одном уровне с такими шедеврами, как Тридцать вторая Соната Бетховена, его же "Хаммерклавир", Си-минорные Листа и Шопена. Но Берта никак не хотела с этим соглашаться и просто настаивала на своем темпе, убеждая, что так будет лучше.
Чтобы избежать конфликта, я сделал вид, что согласился, даже пару раз сыграл в ее темпе, "против шерсти", но на экзамене все равно сыграл так, так мне хотелось, как я слышал эту музыку в своем сознании. Собственно, ничего страшного не произошло, всем экзаменаторам понравилось, сыграно было убедительно, получил свою пятерку, как обычно, но Берта буквально взбесилась. После экзамена она подошла ко мне, выплеснула всю злость, и даже предложила уйти из ее класса, если меня не устраивают ее принципы, затем демонстративно повернулась и ушла.
У меня от ее слов внутри и в глазах все помутнело, я жутко расстроился, не знал куда себя девать, вечером пытался ей позвонить, чтобы извиниться, так она повесила трубку, не стала даже разговаривать. Целый месяц я ходил, как в воду опущенный, не появлялся к ней на уроки, все время ломая голову: ну за что же она так набросилась на меня - только за то, что впервые в жизни я хотел сыграть по-своему? Неужели я совершил такое дерзкое преступление?
И вдруг через полтора месяца, в вестибюле консерватории она увидела меня, затем улыбнулась и подошла, спросив, как ни в чем не бывало: "Игорь, а почему ты не приходишь ко мне за госпрограммой, или ты еще не выбрал, что будешь играть на будущий год?".
В этот момент у меня все отлегло от сердца, вся обида, горечь "несправедливого" наказания, я тут же просветлел, что-то невразумительно ляпнув, типа, так вы же сами предложили мне уйти, на что она совершенно спокойно сказала: "Игорек, возможно ты и прав: первую часть нужно играть медленно - но для этого надо обладать широким дыханием, чтобы все время держать публику, и которого у тебя пока еще нет; но ты знаешь, у тебя, кстати, получилось тогда неплохо, достаточно убедительно, просто... тебе надо было меня предупредить заранее, чтобы меня не нервировать, а ты этого не сделал, поэтому я и набросилась на тебя. Ну, а дуться на профессора некрасиво, да и вообще - на обиженных воду возят, вот тебе деньги, иди и купи мне папиросы, и не забудь, я курю "Беломор" только ленинградской фабрики..." (в то время Берта еще покуривала папироски, и часто меня посылала за ними в магазин).
Радости моей не было предела, я выскочил из консерватории, словно пробка из-под шампанского, на улицу, и во весь дух помчался по улице как угорелый за папиросами для Берты; я был счастлив: она меня простила...
Публикация: 3-11-2005
Просмотров: 4635
Категория: Статьи
Комментарии: 0

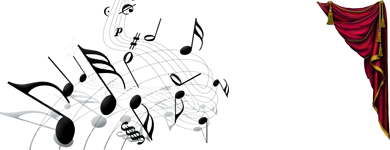
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка