"Тройка... Семёрка... ТУЗ!!. (часть вторая)#3
Так ее интерпретирует и Самосуд, но, увы, женский хор звучит у него недостаточно собранно (видимо, в те времена с качеством хора Большого театра были проблемы – у Пашаева хор поет примерно так же). А вот у Хайкина хор поет уже значительно лучше, но нет той ритмической остроты, определенности единого движения темпа, что особенно замечательно в исполнении Озавы.
Значение этого хора в драматургии картины велико – вместе с ним происходит «психологическая» модуляция – музыка словно переносит нас из драматических коллизий действительности в мир теней.
В опере призрачные видения появляются раньше сцены в казарме – впервые они посещают старую графиню. Она вызывает их из прошлого – перечисление славных имен в устах графини звучит как заклинание. При звуках старинного французского гимна они предстают пред нею, и только для них Московская Венера снова поет свою любимую песенку.
Интонационный строй арии из оперы Гретри органично вписывается в музыкальный материал «Пиковой». Мотив из ее первых четырех нот, сочетаясь с гармонией, ставшей еще со времен веберовской «Волчьей долины» в музыке романтиков воплощением страха, в «Пиковой даме» пронизывает всю оперу. Это – лейт-интонация (напомним, что ее экспозиция в опере совпала со словами из квинтета «мне страшно», поэтому назовем ее «мотивом страха»), отчетливо распознаваемая слухом в самых различных ее темах.
Многочисленные тональные, регистровые, темброво-инструментальные перевоплощения «мотива страха» в пространстве музыкального действа оперы - как в качестве фрагмента лирической темы, так и вполне законченного музыкального символа (в балладе Томского: «Три карты») лишь усиливают эмоциональную «детективную» линию нашего сопереживания. Иными словами, композитор использует приемы и принципы развития материала, что и в инструментальной музыке, когда в разработках его последних симфоний на протяжении небольшого отрезка времени сталкиваются разные темы и их элементы, и когда один и тот же мотив, интонационный оборот претерпевает множественные, подчас весьма причудливые, образные трансформации. Нечто подобное мы слышим, например, и в «Фантастической» Берлиоза.
В 4-й картине «Пиковой» эта игра изощренной фантазии композитора – подмена одного музыкального символа другим (появление тем – «двойников»), разрушающая прежние образно ассоциативные связи – как нельзя лучше создает ощущение ирреальности происходящего. Таким образом, событийный ряд развития сюжета становится не только созерцаемым зрителем, но и «интонационно переживаемым» слушателем. Поэтому, начиная с 4-й картины, комментирующая функция оркестрового материала особенно возрастает – в интриге «музыкальной фабулы» оперы оркестр становится самостоятельно действующим лицом, подчас подменяя сценические персонажи - как, например, в «диалоге» Германа и Графини.
Я ранее отмечал равное, в целом, по качеству выразительности исполнение этой сцены нашими тенорами, но некоторые детали все же стоит отметить. Настойчивой требовательности Германа Атлантова и Анджапаридзе я предпочитаю лирику Ханаева и Нэлеппа. В их интерпретации больше скорбной обреченности – их герой молит Графиню о спасении своей жизни с той же задушевной проникновенностью, как и в сцене с Лизой. (Характерно, что «соль» на словах «на что вам она» оба певца, Ханаев и Нэллеп, поют на пиано, а не орут во всю мощь своих «драматических теноров»).
Комментируя запись с Озавой, не могу обойти молчанием некий нюанс, вдруг появившийся в фонограмме сцены Германа и Графини. Меня неприятно поразил зловеще-ведьминский смешок полусумасшедшей старухи, – ее реакция на притязания Германа. Эта натуралистическая «находка» снижает уровень драматического напряжения одной из кульминационных сцен оперы и противоречит авторской ремарке: «Графиня, выпрямившись, грозно смотрит на Германа». «Грозно» (вспомним фрагмент текста баллады Томского: «Призрак явился и грозно сказал») – здесь ключевое слово, расшифровывающее мистический смысл происходящего – свершение рокового предсказания.
Петр Ильич написал свою «заключительную сцену» – сцену Германа и Графини – почти в точности повторяя схему роковой схватки Хозе и Кармен. Но если в «Кармен» «заключительная сцена» – финал оперы, то сцена в спальне графини ставит «точку» лишь в развитии стержневого драматургического конфликта, не завершая сюжетную фабулу оперы в целом. Вслед за ней, первой кульминацией в опере, следует ее «превышение» – в 5-й картине.
Местоположение «второй кульминации» в драматургии в опере аналогично явлению трагической кульминации первой части Шестой симфонии. А музыкальная живопись сцены появления Призрака Мщения по своей грандиозности и величию может быть сопоставима с пророческими картинами Апокалипсиса.
Движение к ней зарождается из тишины заупокойного песнопения – порождения болезненного сознания Германа, уже утратившего связь с реальностью. И только отдаленный сигнал трубы, безуспешно стремящийся прорваться сквозь череду видений, оказывается единственно реальным символом внешнего мира, навсегда оставленного нашим героем. Сомнений нет – все, происходящее с Германом после смерти Графини, плод его воспаленного воображения.
В озвучивании сцены галлюцинаций Германа трудно отдать предпочтение кому-либо из дирижеров сравниваемых записей. Но все же «монтаж» мотивов, фрагментов тем, зловещих тремоляций струнных и вихревые завывания духовых лучше других удаются Озаве. Особенно устрашающе, ярко и монолитно в тембровом отношении звучат у него аккорды медных. Да и нервно-экспрессивный вокал Атлантова здесь как нельзя лучше соответствует состоянию его героя. Поэтому Озаве мы отдадим «пальму первенства» как лучшему интерпретатору 5-й картины и перейдем к финальным сценам оперы.
Шестая картина целиком посвящена личной драме Лизы, и Герман в ней присутствует лишь на втором плане – его судьба была уже решена ранее...
Зимняя канавка… Стоит лишь оказаться в ненастное вечернее время на этом сгорбившемся мосту, среди строгой и хладной красоты застывших на века силуэтов дворцов и крепости, как вдруг начинаешь слышать эту тревожную музыку смятения и ожидания. Она возникает в памяти только потому, что когда-то именно здесь свела судьба в последнем свидании любимых героев.
Этой сцены нет в пушкинской повести, как и в либретто Модеста Ильича нет текста предсмертной арии Лизы. Композитор сам сочинил его, осознавая необходимость завершить линию взаимоотношений Германа и Лизы трагическим финалом.
Но работая над арией, Чайковский руководствовался не только логикой развития сюжета. В композиции оперы сольная сцена Лизы создает некий баланс по отношению к музыкальному материалу параллельных драматургических линий.
В сфере обширной зоны кульминации «Пиковой дамы» ария Лизы является выражением наивысшего напряжения душевных сил героини. Впрочем, так же, как и у ее «родной сестры», в другой опере композитора: экстатическое прозрение Лизы, крах ее иллюзий: «Так это правда» сродни самоотверженной решимости Татьяны: «Пускай погибну я». Судьба романтических героинь Чайковского в обеих операх одна – это полноценная трагедия: любовь порушена жестокой действительностью, а сердца разбиты.
Но если в «Онегине» ее кульминационные пики – сцена письма и сцена дуэли – занимают традиционное для драматургии крупных музыкальных форм положение в разделе так называемого «золотого сечения» произведения, то в «Пиковой даме» композитор продлевает нагнетание напряженности до последних тактов музыки. Размышляя над возможными вариантами исполнения бриндизи Германа, я вынужден склониться к идее исполнения ее в оригинальной тональности (на моем слуху только два тенора отважились исполнить ее как написано: это Анджапаридзе и Полери в записи из Флорентийского театра Комунале от 1953 года под управлением Родзинского), как наиболее соответствующей выражению состояния Германа – бесстрашный вызов Судьбе.
...Не так ли было не раз и в жизни Петра Ильича? Не будем забывать, что Чайковский обожал «Героя нашего времени» и сочинил на слова Лермонтова, автора «Фаталиста», романс «Любовь мертвеца». Может быть, именно потому его Герман оказался так близок своему создателю, что Чайковский сам неоднократно балансировал на грани жизни и смерти. Петр Ильич ушел из жизни далеко не старым. Ему было всего 53 года. Однако, когда ему был лишь 21 год, он писал своей сестре: «Чем я кончу? Что обещает мне будущее? Об этом страшно и подумать. Я знаю, что рано или поздно (но скорее рано) я не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь вдребезги...".
© Юрий ШАЛЫТ, 2004.
Значение этого хора в драматургии картины велико – вместе с ним происходит «психологическая» модуляция – музыка словно переносит нас из драматических коллизий действительности в мир теней.
В опере призрачные видения появляются раньше сцены в казарме – впервые они посещают старую графиню. Она вызывает их из прошлого – перечисление славных имен в устах графини звучит как заклинание. При звуках старинного французского гимна они предстают пред нею, и только для них Московская Венера снова поет свою любимую песенку.
Интонационный строй арии из оперы Гретри органично вписывается в музыкальный материал «Пиковой». Мотив из ее первых четырех нот, сочетаясь с гармонией, ставшей еще со времен веберовской «Волчьей долины» в музыке романтиков воплощением страха, в «Пиковой даме» пронизывает всю оперу. Это – лейт-интонация (напомним, что ее экспозиция в опере совпала со словами из квинтета «мне страшно», поэтому назовем ее «мотивом страха»), отчетливо распознаваемая слухом в самых различных ее темах.
Многочисленные тональные, регистровые, темброво-инструментальные перевоплощения «мотива страха» в пространстве музыкального действа оперы - как в качестве фрагмента лирической темы, так и вполне законченного музыкального символа (в балладе Томского: «Три карты») лишь усиливают эмоциональную «детективную» линию нашего сопереживания. Иными словами, композитор использует приемы и принципы развития материала, что и в инструментальной музыке, когда в разработках его последних симфоний на протяжении небольшого отрезка времени сталкиваются разные темы и их элементы, и когда один и тот же мотив, интонационный оборот претерпевает множественные, подчас весьма причудливые, образные трансформации. Нечто подобное мы слышим, например, и в «Фантастической» Берлиоза.
В 4-й картине «Пиковой» эта игра изощренной фантазии композитора – подмена одного музыкального символа другим (появление тем – «двойников»), разрушающая прежние образно ассоциативные связи – как нельзя лучше создает ощущение ирреальности происходящего. Таким образом, событийный ряд развития сюжета становится не только созерцаемым зрителем, но и «интонационно переживаемым» слушателем. Поэтому, начиная с 4-й картины, комментирующая функция оркестрового материала особенно возрастает – в интриге «музыкальной фабулы» оперы оркестр становится самостоятельно действующим лицом, подчас подменяя сценические персонажи - как, например, в «диалоге» Германа и Графини.
Я ранее отмечал равное, в целом, по качеству выразительности исполнение этой сцены нашими тенорами, но некоторые детали все же стоит отметить. Настойчивой требовательности Германа Атлантова и Анджапаридзе я предпочитаю лирику Ханаева и Нэлеппа. В их интерпретации больше скорбной обреченности – их герой молит Графиню о спасении своей жизни с той же задушевной проникновенностью, как и в сцене с Лизой. (Характерно, что «соль» на словах «на что вам она» оба певца, Ханаев и Нэллеп, поют на пиано, а не орут во всю мощь своих «драматических теноров»).
Комментируя запись с Озавой, не могу обойти молчанием некий нюанс, вдруг появившийся в фонограмме сцены Германа и Графини. Меня неприятно поразил зловеще-ведьминский смешок полусумасшедшей старухи, – ее реакция на притязания Германа. Эта натуралистическая «находка» снижает уровень драматического напряжения одной из кульминационных сцен оперы и противоречит авторской ремарке: «Графиня, выпрямившись, грозно смотрит на Германа». «Грозно» (вспомним фрагмент текста баллады Томского: «Призрак явился и грозно сказал») – здесь ключевое слово, расшифровывающее мистический смысл происходящего – свершение рокового предсказания.
Петр Ильич написал свою «заключительную сцену» – сцену Германа и Графини – почти в точности повторяя схему роковой схватки Хозе и Кармен. Но если в «Кармен» «заключительная сцена» – финал оперы, то сцена в спальне графини ставит «точку» лишь в развитии стержневого драматургического конфликта, не завершая сюжетную фабулу оперы в целом. Вслед за ней, первой кульминацией в опере, следует ее «превышение» – в 5-й картине.
Местоположение «второй кульминации» в драматургии в опере аналогично явлению трагической кульминации первой части Шестой симфонии. А музыкальная живопись сцены появления Призрака Мщения по своей грандиозности и величию может быть сопоставима с пророческими картинами Апокалипсиса.
Движение к ней зарождается из тишины заупокойного песнопения – порождения болезненного сознания Германа, уже утратившего связь с реальностью. И только отдаленный сигнал трубы, безуспешно стремящийся прорваться сквозь череду видений, оказывается единственно реальным символом внешнего мира, навсегда оставленного нашим героем. Сомнений нет – все, происходящее с Германом после смерти Графини, плод его воспаленного воображения.
В озвучивании сцены галлюцинаций Германа трудно отдать предпочтение кому-либо из дирижеров сравниваемых записей. Но все же «монтаж» мотивов, фрагментов тем, зловещих тремоляций струнных и вихревые завывания духовых лучше других удаются Озаве. Особенно устрашающе, ярко и монолитно в тембровом отношении звучат у него аккорды медных. Да и нервно-экспрессивный вокал Атлантова здесь как нельзя лучше соответствует состоянию его героя. Поэтому Озаве мы отдадим «пальму первенства» как лучшему интерпретатору 5-й картины и перейдем к финальным сценам оперы.
Шестая картина целиком посвящена личной драме Лизы, и Герман в ней присутствует лишь на втором плане – его судьба была уже решена ранее...
Зимняя канавка… Стоит лишь оказаться в ненастное вечернее время на этом сгорбившемся мосту, среди строгой и хладной красоты застывших на века силуэтов дворцов и крепости, как вдруг начинаешь слышать эту тревожную музыку смятения и ожидания. Она возникает в памяти только потому, что когда-то именно здесь свела судьба в последнем свидании любимых героев.
Этой сцены нет в пушкинской повести, как и в либретто Модеста Ильича нет текста предсмертной арии Лизы. Композитор сам сочинил его, осознавая необходимость завершить линию взаимоотношений Германа и Лизы трагическим финалом.
Но работая над арией, Чайковский руководствовался не только логикой развития сюжета. В композиции оперы сольная сцена Лизы создает некий баланс по отношению к музыкальному материалу параллельных драматургических линий.
В сфере обширной зоны кульминации «Пиковой дамы» ария Лизы является выражением наивысшего напряжения душевных сил героини. Впрочем, так же, как и у ее «родной сестры», в другой опере композитора: экстатическое прозрение Лизы, крах ее иллюзий: «Так это правда» сродни самоотверженной решимости Татьяны: «Пускай погибну я». Судьба романтических героинь Чайковского в обеих операх одна – это полноценная трагедия: любовь порушена жестокой действительностью, а сердца разбиты.
Но если в «Онегине» ее кульминационные пики – сцена письма и сцена дуэли – занимают традиционное для драматургии крупных музыкальных форм положение в разделе так называемого «золотого сечения» произведения, то в «Пиковой даме» композитор продлевает нагнетание напряженности до последних тактов музыки. Размышляя над возможными вариантами исполнения бриндизи Германа, я вынужден склониться к идее исполнения ее в оригинальной тональности (на моем слуху только два тенора отважились исполнить ее как написано: это Анджапаридзе и Полери в записи из Флорентийского театра Комунале от 1953 года под управлением Родзинского), как наиболее соответствующей выражению состояния Германа – бесстрашный вызов Судьбе.
...Не так ли было не раз и в жизни Петра Ильича? Не будем забывать, что Чайковский обожал «Героя нашего времени» и сочинил на слова Лермонтова, автора «Фаталиста», романс «Любовь мертвеца». Может быть, именно потому его Герман оказался так близок своему создателю, что Чайковский сам неоднократно балансировал на грани жизни и смерти. Петр Ильич ушел из жизни далеко не старым. Ему было всего 53 года. Однако, когда ему был лишь 21 год, он писал своей сестре: «Чем я кончу? Что обещает мне будущее? Об этом страшно и подумать. Я знаю, что рано или поздно (но скорее рано) я не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь вдребезги...".
© Юрий ШАЛЫТ, 2004.
Публикация: 14-06-2004
Просмотров: 3861
Категория: Статьи
Комментарии: 0

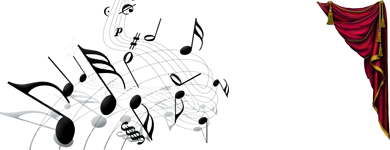
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка