Почему все Фигаро – там?#3
Теперь рассмотрим другой вариант: та же звезда, но, вопреки уговорам (или, не дай Бог! – угрозам) шефа «оставшаяся» на Западе.
Почему солисты оперы столь безудержно стремятся на Запад? – резонов здесь немало. Во-первых, это география: полёт из Москвы или Петербурга в практически любой город Европы забирает такое количество времени, что об отдыхе между спектаклями дома не может быть и речи; нелегка порой адаптация от морозного климата к гораздо более мягкому европейскому; проживание в горах или у моря – тоже не последнее дело для музыканта, чья сила – в его бронхах и связках...
Во-вторых, «сказка» о вовремя заменившем заболевшего солиста певце и ставшим наутро если не знаменитым, но куда более «котирующемся», остаётся реальностью и сегодня. Человек же, получивший вид на жительство в одной из стран Европы, автоматически получает право свободного передвижения по ней: при этом историй, когда тупые чиновники европейских консульств в Москве или Питере, простым своим нежеланием пойти навстречу артисту и выдать визу на полчаса раньше, срывали ответственнейшие спектакли и концерты, можно насчитать с три-четыре десятка. Да и вообще, пройдя через очереди и бесконечные унижения в «визовых» вопросах (а тут ведь не семейный тур раз в год в Афины: это от восьми до четырнадцати вылетов в год в самые различные страны), человек однажды решает: хватит! И уезжает только «туда».
Потому что «там», после всего, ты – сам себе хозяин, обладающий правом выбора. Сегодня ты работаешь с бездарным режиссёром; через две недели – с гением; вчера твоими спектаклями дирижировал унылый ремесленник, а завтра – это всемирно признанный гений. В Российских оперных театрах нет практики обмена режиссёрами и солистами (потому-то и плодятся «Новые оперы», «Геликоны», «Зазеркалье» и т.д. – причём, вместо открытия многих шедевров камерной оперы, ставят исключительно «Аиду» и «Бориса Годунова»). Другое на Западе: три года назад ты слушал с трудом добытую иностранную пластинку знаменитого баритона, а сегодня – ты выступаешь на сцене, как полноправный его партнёр; еще недавно читал о новой работе прославленного режиссёра, и вот – ты уже трудишься в одной с ним «команде». Работа на Западе – это разнообразный опыт, это постижение постановочных и музыкальных стилей; это те контакты, постановки, концерты, которых никогда не случится в безвыездной жизни – будь то Казань, Саратов или Москва.
«Спеть в Метрополитен, в Ла Скала, во многих других престижных театрах – это мечта, и это священное право любого оперного певца, препятствовать которому – преступление! – сказал мне однажды баритон Сергей Лейферкус, проживающий на туманном Альбионе. – А в России я много раз предлагал и бесплатные концерты. Однажды Ленинградская Филармония согласилась; дали только одну дату – а у меня в тот день, как назло, спектакль в Английской Национальной Опере… Я отменил спектакль (потеряв, естественно, деньги!), приехал – и только для того, чтобы узнать, что в этот вечер в Филармонии давали концерт эстрадно-симфонического оркестра Радио и Телевидения… Как можно решать творческие вопросы в такой стране»?!. – Подобные «нюансы» в отношении к людям, а, говоря проще, испокон веков утвердившееся у нас хамство и неуважение – это вещи, от которых легко отвыкают на Западе, но к которым впоследствии почти невозможно снова привыкнуть. Тенор Владимир Богачёв, попавший однажды в тяжелейшую, страшную автокатастрофу (с тех пор прошло немало лет), с дрожью вспоминал писания одного ничтожного московского критика, позволившего себе заметить: «Да, Богачёв выжил… но о карьере певца ему теперь придётся, похоже, забыть»… География последних выступлений Богачёва в роли Отелло: Метрополитен, Ковент Гарден, Амстердамская опера, Баварская опера в Мюнхене – красноречиво свидетельствует об обратном. Понятно и то, что подобное, сплошь и рядом ставшее правилом отношение «родной» прессы является для уехавших лучшим лекарством от ностальгии…
Почему солисты оперы столь безудержно стремятся на Запад? – резонов здесь немало. Во-первых, это география: полёт из Москвы или Петербурга в практически любой город Европы забирает такое количество времени, что об отдыхе между спектаклями дома не может быть и речи; нелегка порой адаптация от морозного климата к гораздо более мягкому европейскому; проживание в горах или у моря – тоже не последнее дело для музыканта, чья сила – в его бронхах и связках...
Во-вторых, «сказка» о вовремя заменившем заболевшего солиста певце и ставшим наутро если не знаменитым, но куда более «котирующемся», остаётся реальностью и сегодня. Человек же, получивший вид на жительство в одной из стран Европы, автоматически получает право свободного передвижения по ней: при этом историй, когда тупые чиновники европейских консульств в Москве или Питере, простым своим нежеланием пойти навстречу артисту и выдать визу на полчаса раньше, срывали ответственнейшие спектакли и концерты, можно насчитать с три-четыре десятка. Да и вообще, пройдя через очереди и бесконечные унижения в «визовых» вопросах (а тут ведь не семейный тур раз в год в Афины: это от восьми до четырнадцати вылетов в год в самые различные страны), человек однажды решает: хватит! И уезжает только «туда».
Потому что «там», после всего, ты – сам себе хозяин, обладающий правом выбора. Сегодня ты работаешь с бездарным режиссёром; через две недели – с гением; вчера твоими спектаклями дирижировал унылый ремесленник, а завтра – это всемирно признанный гений. В Российских оперных театрах нет практики обмена режиссёрами и солистами (потому-то и плодятся «Новые оперы», «Геликоны», «Зазеркалье» и т.д. – причём, вместо открытия многих шедевров камерной оперы, ставят исключительно «Аиду» и «Бориса Годунова»). Другое на Западе: три года назад ты слушал с трудом добытую иностранную пластинку знаменитого баритона, а сегодня – ты выступаешь на сцене, как полноправный его партнёр; еще недавно читал о новой работе прославленного режиссёра, и вот – ты уже трудишься в одной с ним «команде». Работа на Западе – это разнообразный опыт, это постижение постановочных и музыкальных стилей; это те контакты, постановки, концерты, которых никогда не случится в безвыездной жизни – будь то Казань, Саратов или Москва.
«Спеть в Метрополитен, в Ла Скала, во многих других престижных театрах – это мечта, и это священное право любого оперного певца, препятствовать которому – преступление! – сказал мне однажды баритон Сергей Лейферкус, проживающий на туманном Альбионе. – А в России я много раз предлагал и бесплатные концерты. Однажды Ленинградская Филармония согласилась; дали только одну дату – а у меня в тот день, как назло, спектакль в Английской Национальной Опере… Я отменил спектакль (потеряв, естественно, деньги!), приехал – и только для того, чтобы узнать, что в этот вечер в Филармонии давали концерт эстрадно-симфонического оркестра Радио и Телевидения… Как можно решать творческие вопросы в такой стране»?!. – Подобные «нюансы» в отношении к людям, а, говоря проще, испокон веков утвердившееся у нас хамство и неуважение – это вещи, от которых легко отвыкают на Западе, но к которым впоследствии почти невозможно снова привыкнуть. Тенор Владимир Богачёв, попавший однажды в тяжелейшую, страшную автокатастрофу (с тех пор прошло немало лет), с дрожью вспоминал писания одного ничтожного московского критика, позволившего себе заметить: «Да, Богачёв выжил… но о карьере певца ему теперь придётся, похоже, забыть»… География последних выступлений Богачёва в роли Отелло: Метрополитен, Ковент Гарден, Амстердамская опера, Баварская опера в Мюнхене – красноречиво свидетельствует об обратном. Понятно и то, что подобное, сплошь и рядом ставшее правилом отношение «родной» прессы является для уехавших лучшим лекарством от ностальгии…
Публикация: 12-01-2001
Просмотров: 3606
Категория: Статьи
Комментарии: 0
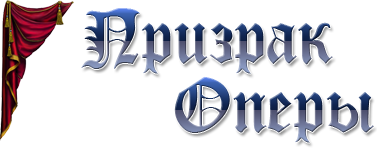
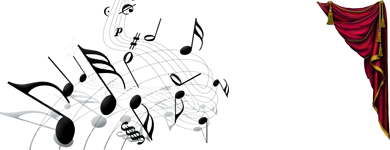
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка