«Манон Леско» - "опера страсти и отчаяния"
 Беседа с певцом Владимиром Галузиным
Беседа с певцом Владимиром ГалузинымПосле тридцатилетнего (!) перерыва на сцене чикагской Лирик-оперы поставлена одна из лучших опер Джакомо Пуччини - "Манон Леско". Режиссер спектакля - Оливье Тамбози, в главных партиях - Карита Маттилла (Манон) и знаменитый российский тенор Владимир Галузин (кавалер Де Грие), обладающий уникальным по тембру и энергетике бархатным голосом.
Галузин словно создан для театра. Он относится к тем немногим "синтетическим" певцам сегодняшней сцены, которые обладают великолепным сочетанием прекрасных вокальных данных и проникновенной актерской игры. Сегодня Владимир Галузин - один из самых востребованных теноров современности. Его контракты расписаны на пять лет вперед, его имя украшает афиши лучших оперных театров мира.
Мне посчастливилось познакомиться с тенором после одного из премьерных спектаклей, и он любезно согласился ответить на мои вопросы. Наш разговор начался, конечно, с оперы "Манон Леско".
– Это ведь не первое ваше обращение к партии кавалера Де Грие?
– У меня был не очень удачный опыт с "Манон Леско". Я исполнял эту партию в бельгийском Льеже одиннадцать лет назад. Потом был спектакль в "Ла Скала", где я спел только генеральную репетицию. Тогдашний главный дирижер театра Рикардо Мути поставил мне условие спеть три спектакля за четыре дня. Это было невозможно, и я уехал. Это, скажем так, несостоявшаяся премьера. Потом был спектакль с Гергиевым в Роттердаме, где я тоже дошел до генеральной репетиции и заболел. Я спел тогда только премьерный спектакль. Так что чикагский спектакль - это второй полноценный опыт "Манон Леско".
– И американская премьера вашего кавалера Де Грие.
– Да, это моя премьера в Америке. Вообще, этот спектакль очень редко ставится. Красивейшая опера с гениальной музыкой, но попробуйте найти еще такого сумасшедшего тенора, который возьмется за эту работу! (Смеется.) Это физически выдержать очень сложно. Четыре акта на сцене, сложнейшие арии, безумные тесситуры, дуэты... "Манон Леско" - самая трудная опера Пуччини, опера страсти и отчаяния. Это - человеческая трагедия. И весь Пуччини такой - страстный, эмоциональный. Я обожаю эту музыку, но до сих пор побаиваюсь этой партии.
– Как проходили репетиции?
– Обстановка на репетициях была прекрасная. Режиссер Оливье Тамбози доскональнейшим образом подготовился к этой опере, изучил характеры героев, придумал мизансцены. Каждая деталь, каждая мелочь были продуманы. Если бы ему дали больше репетиций, действие было бы еще более насыщенным, он бы заставил нас петь не только лежа, но и вниз головой. (Смеется.) Конечно, петь все эти бесконечные "Си-бемоли", "Си-бекары" и даже "До" в лежачем и скрюченном положении очень сложно. Мы сознательно, ради зрителя пошли на эти сложности. Нам хотелось, чтобы на сцене был настоящий драматический спектакль.
– Это у вас получилось. Спектакль яркий, живой, зрелищный. А вы меняете созданный вами образ кавалера де Грие в зависимости от постановки, декораций, костюмов?
– Моя задача - поддерживать тот психологический и пластический рисунок роли, который изначально задается режиссером. Есть небольшие импровизации во время спектакля, но характер роли остается, конечно же, неизменным. Иначе получается самодеятельность, которая неизвестно куда приведет. Если я буду что-то менять, моя партнерша будет что-то менять, то изменится смысл спектакля. Мало того, если я не согласен с режиссером, но участвую в этой постановке, то я честно выполняю его задумки. Разумные, во всяком случае... (Смеется.)
– То есть режиссер - главный.
– Главный во всем, что касается идеи, рисунка спектакля и мизансцен. А в музыкальной части главный - это, конечно, дирижер. Лучше всего, когда все выверено на репетициях: все темпы, все нюансы, вся динамика... В чикагском спектакле есть одна очень большая проблема. Декорации сделаны потрясающе, но они закрывают "подзвучку" оркестра. Это касается и домов в первом акте, и тюрьмы в третьем. Когда ты находишься не совсем близко к рампе и оркестру, то оркестр не слышен вообще! И все мониторы оказываются за декорациями. Оркестр прекрасно слышен за кулисами, но не слышен на сцене.
– А как могло такое получиться? Режиссер-то должен понимать...
– Режиссер рассчитывает на то, что оркестр слышен со сцены. С акустической точки зрения декорации очень грамотные: они без материи, слышимость очень хорошая. Но весь звук уходит в зал. Отсюда большое напряжение, стараешься уловить темп, иногда просто наугад поешь. Это не минус спектаклю. Скорее, это наша вина - вина певцов, что мы вовремя не сказали об этом и только сейчас, в процессе работы, стали это понимать.
– Что вы можете сказать об уровне оркестра и хора Лирик-оперы?
– Оркестр и хор просто великолепные. В Лирик-опере потрясающий хормейстер Дональд Палумбо. Человек-фанатик своего дела, он живет хором, следит за каждым выступлением, делает замечания... Театру очень повезло с ним. В "Манон Леско" есть безумно сложные хоровые места. Пения как такового мало, хоровые места идут обрывочными фразами, а это и есть самое сложное для хора. Но хор Лирик-оперы прекрасно справляется с этим. Они поют вместе очень ровными, выверенными голосами. Кстати, в Америке есть еще один прекрасный хор - в Хьюстоне. Когда я пел там "Турандот", я был просто потрясен хором. Уровень театра определяется не приглашенными певцами - это не заслуга театра. Ведь что такое театр? Театр - это в первую очередь оркестр и хор. Чикагская Лирик-опера имеет и то, и другое. Лирик-опера - один из немногих театров в мире, где натуральная акустика. Здесь очень приятно петь, и голоса здесь раскрываются не за счет микрофонов. В Лирик-опере создана очень благоприятная и доброжелательная атмосфера, здесь нет групповщины, нет интриг. В этом большая заслуга директора театра Уильяма Мэйсона, который подобрал такой коллектив единомышленников. Лирик-опера - благополучный театр высокого уровня.
– Не могу не спросить вас о чикагском зрителе.
– Чикагский зритель - на удивление грамотный. Он реагирует на юмор и, что мне нравится, не реагирует на декорации во время действия. В Метрополитен-опере могут аплодировать люстре, потому что она очень большая и красивая. И неважно, что в момент, когда она опускается, на сцене поет солист. Это для меня немножко странно. В Чикаго зритель подготовленный.
–Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве.
– Я родился в Рубцовске. Если посмотреть на земной шар, Рубцовск находится в центре, между Европой и Азией. Правда, этот центр очень хорошо забыт Богом. (Смеется.) Это Алтайский край - граница Казахстана и Сибири. Южная Сибирь.
– Много солнца?
– Да. Климат резко континентальный, но солнце круглый год. Если снег зимой, то он настолько яркий, что приходится щуриться.
– Может быть, вы купили дом в Провансе потому, что вы просто по солнцу соскучились.
– (Смеется.) Точно. Я жил в Питере, где солнца не было. Сейчас живу в Бельгии, где три четверти года идет дождь. Бельгия и солнце - две вещи несовместимые. Поэтому я и выбрал Прованс с его сухим климатом.
– Вернемся в Рубцовск. Вы помните свои первые детские впечатления от оперы?
– Мои родители не имели никакого отношения к искусству. Мама была бухгалтером. Она умерла почти 25 лет назад. Папа работал слесарем в локомотивном депо. Рубцовск находится в 120 км от ядерных полигонов, да и Байконур недалеко. Сначала взрывали в воздухе, потом под землей... Так что, то, что я пошел в искусство, наверно, связано с какой-то природной аномалией. (Смеется.) Если серьезно, я родился под знаком Близнецов, а Близнецы любят творчество. В детстве мы делали занавес из простыней и разыгрывали спектакли. Я очень любил петь, но когда я слышал оперы по радио и смотрел их по телевидению, мне это не очень нравилось. Особенно мне не нравилось, как пели женские голоса... (Смеется.) Вообще, я часто вспоминаю свое счастливое пионерское детство. Мы понятия не имели ни о какой идеологии. Мы занимались спортом, у нас были прекрасные педагоги в школе. Мы жили дружно, никогда не задумывались, кто какой национальности, а когда я приехал в крупные города, мне все объяснили. Поэтому когда сегодня мне говорят про "Совдепию", я не могу сказать, что это меня коснулось. Я мог спокойно сказать то, что я думаю, а мне вокруг испуганно говорили: "Ты что, нельзя такое говорить". Я был и остался непуганым... Моя бабушка и при коммунистах ходила в церковь...
– Ностальгия осталась?
– По времени - да. По людям. Мне мамы недостает... Когда я закончил школу, я поехал в Барнаул - столицу Алтайского края - поступать на хоровое отделение в культпросвет училище. Культурно беспросветное училище. (Смеется.) Как-то из Сибирского военного округа к нам приехали проводить прослушивание и набирать в ансамбль песни и пляски. "Забирайте меня в армию", - сказал я. Мне не хотелось ехать в деревню и в качестве культурно-просветительского работника нести культуру в массы. Первый раз с оперным искусством я познакомился в армии в Новосибирске. В качестве наказания нас повели в оперу на "Бориса Годунова". Взвод солдат, строем - все как надо. Вместо увольнения - в оперу. Раз вы такие плохие... Я послушал "Бориса Годунова" и был просто в шоке. Меня впечатлила музыка, постановка, голоса... Вместе со мной в армии служил Сергей Алексашкин. Сейчас он солист Мариинского театра, бас. В армии он обожал Шаляпина, у него с собой был шаляпинский сборник. Так вот, я перепел басом весь шаляпинский репертуар. (Смеется.)
– Наказание оперой пошло вам на пользу.
– Да, наказание пошло на пользу. Потом было вокальное отделение Новосибирской консерватории и восемь лет в Новосибирском театре оперетты.
– Какими были эти годы для вас? Вы ведь были ведущим артистом?
– Я не любил этот жанр, хотя я понимаю, что есть прекрасные оперетты. Штраус, Кальман... Я веселил публику, а это мне не очень нравилось. Поняв, что никому не нужен как певец, я смирился со своим положением и все эти восемь лет проходил школу драматического актера.
– Был кто-то, кто открыл ваш голос?
– Не было. Такого человека не было. Я в консерваторию пришел с нуля и очень многому научился, но за годы работы в оперетте я деградировал, я стал забывать то, чему меня учили в консерватории. Меня спас кружок любителей оперы. Нас было четверо, мы пели дуэты, хоры, квартеты, какие-то сольные арии из опер, концерты. Пели даже "Реквием" Верди. На этих концертах что-то во мне начало открываться. Я начал получать удовольствие от того, что я делаю, у меня появилось желание петь! Я прослушался в Московском Академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и спел там "Иоланту" Чайковского. Я понял, что я могу петь оперу и пора начинать новую жизнь. В Новосибирске я начал петь в театре оперы и балета. Меня отговаривали: "Зачем тебе это надо, ты у нас главные партии поешь, а там тебе маленькие роли будут давать". Я отвечал: "Дайте мне попробовать. Театры рядом, 200 метров один от другого. Не понравится - вернусь. Я просто хочу использовать мой шанс". Вот я и использовал. В оперетту я не вернулся, а уехал еще дальше - в Питер.
– Как вы оказались в труппе Мариинского?
– Я поработал в Питере год в камерном театре "Санкт-Петербург Опера". В Питере оперный мир очень маленький. Мне предложили показаться Гергиеву. Так состоялось наше знакомство, и меня приняли в труппу Мариинского театра.
– У вас был потрясающий старт в Мариинке - Отелло в одноименной опере Верди, Алексей в "Игроке" Прокофьева. И сразу успех!
– После Отелло мне чего только не пророчили. И славу пророчили, и что через три месяца я лишусь голоса. В этих партиях - и в Отелло, и в Алексее - я использовал тот багаж, те актерские возможности, которые я накопил в оперетте. И содружество с Мариинским театром я продолжаю до сих пор. Я приезжаю на "Белые ночи", стараюсь по возможности участвовать в зарубежных гастролях театра. Минимум два раза в год я приезжаю в Санкт-Петербург. Недавно пел Алексея в "Игроке" с Мариинском театре в Брюсселе.
– Считаете ли вы Гергиева своим учителем?
– Гергиев дал мне возможность работать в своем театре. Конечно, работа с ним - это огромная школа. Я благодарен концертмейстерам, с которыми я работал. За шесть лет работы в Мариинском театре я выучил такое количество ролей, что мне на всю жизнь хватит. Сейчас я, наверно, пою одну десятую часть из того, что я знаю. Я пел около пятидесяти опер! Мы с Гергиевым записали восемь опер на "Philips". Гергиев открыл западному слушателю всю русскую оперу. Мир впервые услышал "Хованщину" Мусоргского, "Садко", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Псковитянку" и "Царскую невесту" Римского-Корсакова, "Войну и мир" и "Огненного ангела" Прокофьева - гениальные русские оперы.
– На Западе знают, наверно, только "Евгения Онегина" и "Пиковую даму".
– Знают три оперы: "Евгения Онегина", "Пиковую даму" и "Бориса Годунова". "Пиковую даму" даже в меньшей степени, хотя это самая лучшая, самая цельная из существующих опер. Я так говорю не потому, что я русский человек. У меня есть друг во Франции, который не знает русского языка и не знает сюжета "Пиковой дамы". Он плачет от самой музыки. В музыке выражено все. Так же, как если смотреть гениальный фильм, то, даже не зная языка, все будет понятно.
– Потому что есть универсальный язык Искусства.
– Конечно.
– Хотелось бы продолжить тему "Пиковой дамы". Можно ли сказать, что партия Германа - ваша самая любимая партия?
– Эта партия стоит особняком. Герман близок мне по духу, по характеру. Вообще, "Пиковая дама" цельна не только по своему одному персонажу - в ней гармоничны все партии. Это музыкальный и драматический шедевр Чайковского.
– Сочетание двух гениев - Пушкина и Чайковского.
– Там не все от Пушкина, у Пушкина все-таки проза. В создании оперы большая заслуга принадлежит Модесту Ильичу Чайковскому - автору либретто. Чайковский не захотел писать либретто по Пушкину, ему был не очень интересен холодный Герман Пушкина. У Петра Ильича Чайковского принципиально смещены акценты! Психология роли у Чайковского ближе к Достоевскому, чем к Пушкину. И для меня Герман Чайковского интересней, чем Герман Пушкина.
– Вы поете исключительно русский и итальянский репертуар. Почему? Чем это объясняется?
– При том, что итальянская и русская музыка различны, школы пения очень близки. Когда я работаю над партиями в итальянских операх, я слушаю много вариантов исполнения и пытаюсь принять для себя, как говорят по-итальянски, "pronuncia". Я учусь у тех певцов, которые правильно преподносят текст. Стараюсь найти для себя эталон. Мне ближе итальянский язык, чем немецкий. Немецкая школа - абсолютно другая. То же самое относится и к французской музыке. Послушайте, как французы поют Массне, Бизе! Какое это рафинированное дело. Там нет таких страстей, как в итальянской музыке. Для меня Италия - это барокко, а французский стиль - рококо.
– А я как раз "подобрал" для вас две партии из другого стиля. Зигфрид Вагнера. Там есть что петь тенору, согласитесь...
– Есть, есть...
– И Самсон.
– (Смеется.) Конечно. И "Троянцы" Берлиоза - я обожаю его музыку. Берлиоз - один из моих самых любимых композиторов. Кстати, во Франции он стоит немного особняком. Точно так же, как Пуччини в Италии. Мы слышим только Верди, Доницетти, Беллини. Пуччини и Берлиоз стоят как-то странно, "на другой полочке"... А возвращаясь к "вашим" партиям... (Смеется.) Может быть, когда-нибудь я попробую себя в этом репертуаре. Но для меня это будет тщательная работа, для которой мне нужно время. А найти время сейчас невозможно. 3 декабря я пою последний спектакль в Чикаго, на следующий день лечу в Токио, потом неделя в Вашингтоне, потом - "Манон Леско" в Хьюстоне. А между спектаклями я эмоционально и физически выжат, "зализываю раны" и не могу браться за что-то серьезное.
– Но того багажа, который у вас есть, вам хватит на двадцать лет вперед.
– Да, с тем репертуаром, который у меня есть, я благополучно могу допеть до пенсии. Но, конечно, хотелось бы попробовать что-то новое. Я очень хочу спеть Самсона. Но я живу во франкоязычной стране и знаю, насколько я далек от правильного произношения. С итальянским текстом такого нет. Это не идеально, но это более-менее похоже. Во французских операх я часто не могу уловить языковые тонкости. Мне говорят: "А чего ты боишься? Ты же живешь во Франции, говоришь по-французски". А я поэтому и боюсь, что немножко говорю по-французски.
– То есть две проблемы: время и язык?
– И стиль. Другой стиль. Вот эти три вещи, которые меня сдерживают.
– А вам предлагали попробовать эти роли?
– Конечно. Только соглашайся. Мне Париж ("Опера Де Бастиль") Самсона предлагает, а я говорю: "Поехать к вам, волкам?" (Смеется.) Во Франции очень трепетно относятся к языку, для них очень важна грамотность в произношении. Ты можешь ни одного слова не знать по-французски, но если ты правильно, грамотно уловил произношение, они это очень ценят. А если нет, они беспощадно тебя за это осудят.
– Вы поете, кажется, весь пуччиниевский репертуар: Пинкертон, Каварадосси, кавалер Де Грие, принц Калаф...
– Одна из первых моих работ в опере был Ринуччо в опере Пуччини "Джанни Скикки" в Новосибирском театре оперы и балета. Я пел его на русском языке. Сейчас я не помню ни одной ноты из этой оперы - так это было давно. Когда я начал свою карьеру на Западе, меня долгое время кормил Пинкертон. (Смеется.) Я пел "Баттерфляй" и в Европе, и в Америке - везде! Одна из моих самых любимых ролей - Калаф в "Турандот". Вернее, не ролей, а оперных партий. Для меня роль - это Герман, это Отелло. А Калаф - это певческая партия с безумно красивой музыкой. Но когда меня спрашивают про характер Калафа, драматургию роли, я говорю: "Давайте не будем углубляться". (Смеется.) В основе оперы лежит сказка, и композитор не ставил себе целью создание цельного драматического образа.
–Сегодня мы точно не будем углубляться в этот вопрос. Оставим Калафа на следующий год. (Галузин поделился со мной творческими планами и - к общей радости всех любителей оперы - выяснилось, что с партией Калафа певец вернется в чикагский театр в следующем сезоне. В дальнейших планах Галузина - Канио в "Паяцах" и Каварадосси в "Тоске" в Лирик-опере). А сегодня хочется спросить у вас вот о чем: Не возникало ли у вас случаев, когда выучив новую партию, спешно приходится что-то менять. Например, один театр берет одну редакцию, другой - другую. А вы должны ко всему подстраиваться...
– У меня была такая история. Я пел "Турандот" в Афинах. Мне, как всегда, прислали версию Альфано, который дописал "Турандот". Эта версия идет по всему миру с купюрами Артуро Тосканини. Он изменил некоторые мелодические вещи, опасаясь, что "Турандот" Пуччини превратится в "Турандот" Альфано. Я глянул на партитуру, полистал первые страницы и отложил в сторону. Что может быть в ней нового? Мне, например, всегда присылают партитуру Отелло, а там только иногда бывает сокращен ансамбль в третьем акте, либо (очень-очень редко) в третьем акте идет французский вариант с балетными танцами - специально для Парижской оперы. А в остальном - никаких изменений. Я ожидал, что не будет сюрпризов и с "Турандот". Моя партнерша Галина Калинина сделала то же самое: открыла партитуру и... закрыла ее. Приезжаю за пять дней до премьеры, открываю партитуру на репетиции - боже мой, там столько учить! В Афинах решили исполнить первоначальный вариант Альфано. Тосканини потому и внес изменения, что Альфано перемудрил, внеся туда столько верхних нот. Что делать? Пришлось попотеть.
– Что вы можете сказать о режиссуре на сегодняшней оперной сцене?
– Это большая проблема. Ведь любой оперный дирижер, даже если он не настолько хорош, все-таки профессионал. В зависимости от своего таланта он пытается воплотить музыку композитора. А режиссеры зачастую пытаются найти какую-то новую форму в опере. Так как современные композиторы не пишут гениальных опер или пишут, но их очень мало, то режиссеры ищут новые формы в классическом репертуаре. Очень часто из этого получается клякса.
– Получается "Фиделио" в концлагере...
– Все в концлагере: и "Хованщина", и "Борис Годунов", все идет с автоматами, все в полном хаосе.
– Чего вы больше всего не любите в опере?
– Нашего актерского непрофессионализма. Если ты не чувствуешь партию, ты не сможешь спеть ее красиво. Надо понимать, что хотел выразить в опере композитор. Даже если ты плохо двигаешься, если ты толстый, выразить то, что написано композитором, ты обязан. Я не люблю в оперных певцах нежелание вникнуть в смысл написанного. Потрясающе красивый голос, "бельканто", но без эмоций, без души. Возникает вопрос: зачем?
– Желательно, чтобы было все в комплексе: и голос, и драматическая игра...
– Конечно. Вот этого комплекса многим не хватает.
– Какие оперные постановки вам запомнились?
– "Севильский цирюльник" Россини в Штутгарте. Я был просто потрясен постановкой. Этот спектакль был поставлен шокирующе. Графа Альмавиву исполнял черный актер с пластикой Майкла Джексона. Это было просто феноменально. Там были прекрасные актеры, там было настоящее действие. Меня часто спрашивают, как я отношусь к модерну. К такому - хорошо. Но это "Севильский цирюльник", которого можно перенести в абсолютно любую эпоху, чего нельзя сказать о "Хованщине" или "Борисе Годунове".
– Что вы можете выделить из спектаклей с вашим участием?
– Мне посчастливилось работать с главным режиссером БДТ Тимуром Чхеидзе. Мы делали "Игрока" С.Прокофьева в "Ла Скала" и - то была самая удачная постановка - в Метрополитен-опере. Все главные исполнители были из Мариинского театра. Сергей Алексашкин - генерал, Ирина Богачева - бабуленька... Потрясающий спектакль, который практически нигде не идет! Как музыкально-драматический спектакль он идеален. Я считаю, что "Игрок" в постановке Чхеидзе - лучший спектакль, в котором я принимал участие. Он, кстати, будет повторяться в Метрополитен в следующем году. Когда мы делали "Игрока" в Брюсселе, директора некоторых театров говорили: "Сведи меня с Гергиевым, мы обязательно поставим у себя". Причем они даже не видели постановки - это было концертное исполнение.
– Что вы больше всего цените в партнерах по сцене?
– В первую очередь - профессионализм и способность к импровизации. Повторять все время одни и те же движения скучно. Поэтому, когда партнер идет на импровизацию на сцене, принимает мои идеи и сам предлагает что-то новое, получается максимальный результат. В оперных спектаклях это огромнейшая редкость. Не просто большая - огромнейшая. Нужен подготовленный партнер, который знает законы сцены и реакцию зрителей, а таких единицы.
– Карита Маттилла входит в это число?
– Безусловно. Карита - из тех немногих певиц, которые отличаются актерской игрой и полной, стопроцентной отдачей. Она никогда на сцене не экономит силы. Она живет оперой, и поэтому с ней очень приятно работать. Она импровизирует, она зажигается, она на ходу принимает находки партнеров. Видеть ее глаза - одно удовольствие, потому что они живые. Я люблю работать с Маттиллой. Мы вместе пели в "Пиковой даме" в "Опера Де Бастиль" и в лондонском "Ковент-Гарден", и вот сейчас - "Манон Леско". После Чикаго мы повторяем эту постановку в Хьюстоне.
– Кто ваш эталон в вокальном искусстве?
– Нельзя говорить о каком-то одном исполнителе. Например, я считаю Марио Дель Монако одним из лучших Отелло в мире. Караяновская запись "Отелло" с Марио Дель Монако эталонна. Я обожаю Франко Корелли, очень люблю итальянского тенора Джакомини. К сожалению, он мало известен, даже в Италии о нем мало знают. Конечно, люблю Альфредо Крауса.
– А есть сегодня конкуренция между солистами в опере? Предположим, между вами-Отелло и Отелло-Беном Хеппнером?
– Я слушал Хеппнера в Метрополитен-опере. Он достаточно достойно пел. Но, опять же, он поет Вагнера. Существуют разные стили в опере, и он больше вагнеровский певец. А конкуренция?.. Ну какая конкуренция? Если бы мы пели в одном театре одну и ту же роль, могла бы быть какая-то конкуренция. А когда он поет в Чикаго, а я пою в Париже и наоборот... Это не спорт, здесь победителей нет.
– С какими дирижерами вам было интересно работать?
– В Новосибирском театре оперы и балета мне посчастливилось поработать с Исидором Аркадьевичем Заком. Он - целая эпоха в дирижировании, дирижер-титан. Он меня многому научил. Я с ним первый раз пел "Мадам Баттерфляй". Он меня учил, что главное в опере - музыка. Нужно об этом не забывать! Эти уроки я помню на всю жизнь. А какое удовольствие он получал, когда делал мне замечания и видел результат!.. Мне было очень интересно работать с Рикардо Мути во время репетиций "Манон Леско". Есть еще один очень интересный дирижер - Дэниэл Оран. У нас с ним была "Аида" в "Арене Ди Вероне". Он понимает стиль, возможности певцов, он помогает во время спектакля... С Гергиевым всегда интересно. Даже, когда мы ставим одну и ту же оперу, получается всегда неожиданно. В Роттердаме "Манон Леско" с Гергиевым была совсем другой, нежели с Мути. Гергиев - страстный человек. Пуччини - это его композитор. Рикардо Мути - больше вердиевский композитор. Сделать в такте, скажем, расширение или замедление - для него это безвкусица. С Мути было очень интересно работать в классе. Я вспоминаю занятия с ним с большим удовольствием.
– У вас есть любимый театр, в котором вам комфортней всего выступать?
– Я очень люблю парижскую "Опера Ди Бастиль". Этот театр не отличается особой акустикой, но в техническом отношении не имеет себе равных в мире. Там абсолютно автоматизированная сцена, где все вертится, поднимается, опускается. Это целый завод, который в случае войны может делать танки, самолеты... (Смеется.) Они сами делают декорации, сами же их хранят. У них нет никаких проблем с деньгами. Этот театр получает половину бюджета всех остальных театров Франции.
– Счастливые люди - они могут не думать о деньгах.
– Наверно, они тоже думают, но посещаемость театра очень хорошая. Париж сделал оперу доступной народу. Там большое количество мест с достаточно доступными ценами. Всегда стоят очереди, почти всегда полные залы. Почти, потому что есть такая музыка, которая не очень вдохновляет зрителя. В основном, современная опера.
– А вы боитесь сцены? Чувствуете волнение перед выходом?
– Только тогда, когда нездоров. Не могу сказать, что я совсем старый, но наступает момент, когда мышцы становятся не такими эластичными. Опера становится очень тяжелой физически. Конечно, я не иду на сцену с трепетом и волнением. Просто у меня бывает подспудное чувство, что этот спектакль можно не допеть. Я говорю себе: "Будь осторожен!" Если вокальное и физическое состояние не идеальное, то требуется контроль. Правда, бывает, эмоции захлестывают, и тогда контроль не получается. Моя хитрость в таких тяжелых спектаклях, как "Пиковая дама", "Отелло" или "Манон Леско", состоит в том, что я не думаю об опере от начала до конца. Я пою шаг за шагом и не думаю о тех килограммах, которые должен поднять за вечер. Я иду медленно, по граммам. Психологически для меня это легче.
– А вы не думали попробовать себя в оперной режиссуре?
– Я не буду это делать. Самое большое, что я мог бы сделать, - при очень хорошем режиссере быть консультантом, помощником.
– Очень любопытно заглянуть на актерскую кухню. Есть ли у вас репетиционная система?
– Репетиционный процесс для меня - один из самых интересных, если рядом - режиссер-личность. Мне все время задают вопрос, зачем я на репетициях пою в полный голос. Все мизансцены должны быть выверены. Я на репетициях делаю гораздо больше, чем даже на спектаклях, потому что на репетициях я экспериментирую. Что-то я выбираю для себя, что-то отбрасываю. Насколько я правильно это делаю, судить зрителю, но я стараюсь использовать все возможности, весь мой предыдущий опыт, чтобы найти что-то новое. Когда мы репетировали "Манон Леско", я понял, что смогу петь лежа, смогу выдержать все эти "скрюченные" сцены. Я проверяю несколько вариантов, а потом выбираю для себя оптимальный и наиболее выразительный.
– Не могу не спросить о вашем увлечении живописью.
– Мне стала интересна живопись в консерватории. А потом я стал ездить, и у меня появилась возможность посещать музеи. Когда я бываю в Амстердаме, я смотрю картины обожаемого мною Рембрандта.
– А в чикагском Арт-институте увидели что-нибудь интересное?
– Во время моих первых гастролей в Чикаго я увидел в Арт-институте потрясающую картину Ван Дер Вейдена. Она висит рядом с работой Ганса Мемлинга (кстати, ученика Ван Дер Вейдена. - С.Э.) И, конечно, меня потрясла богатейщая коллекция импрессионистов. Такое количество! Смотришь на известную картину и думаешь: "Боже мой, так она, оказывается, здесь!"
– А ваш дом в Провансе связан как-то с местами Ван Гога и Сезанна?
– Нет, нет. (Смеется.)
– Но он же жил в ваших местах?
– Может быть, он свое ухо потерял где-нибудь около моего дома. (Смеется.) Из моего дома видна гора Сан Виктуар и недалеко до Экс-Ан-Прованса, где Сезанн и Ван Гог благополучно создавали свои шедевры. Но это никак не связано с моим местожительством. Это связано с тем, что я люблю Тоскану и хотел бы иметь такой пейзаж, как в Тоскане, но в Тоскане я не могу жить, поскольку мои дети франкоязычные. А Прованс очень похож на Тоскану. Единственное отличие - нет Флоренции. (Смеется.) Но зато есть Авиньон, есть Экс-Ан-Прованс, Марсель рядом - тоже потрясающие города.
– У вас дом в Провансе, но вы практически не бываете дома. Вся жизнь в разъездах. Как ваши близкие относятся к этому? Привыкли?
– Когда была жива бабушка, она показывала детям мои фотографии. (Смеется.) Вот папа, вот как он выглядит… Моя жизнь проходит в гостиницах и в самолетах. Романтика, может быть, и есть в этих переездах, но романтика до поры до времени. Для семьи и для меня это очень трудно. Спасают люди, с которыми я провожу время, новые друзья. Вся моя жизнь в работе. Наш век короток, хочется еще многое успеть. Поэтому пока есть во мне потребность, пока я могу работать, я буду работать.
– Спасибо вам за интереснейшую беседу! С нетерпением будем ждать появления в Чикаго Галузина - принца Калафа.
Интервью состоялось 13 ноября 2005 года в Чикаго.
С Владимиром Галузиным беседовал Сергей Элькин, 2005
При перепечатке просьба ссылаться на источник и ставить создателей сайта в известность.
Публикация: 14-12-2005
Просмотров: 6312
Категория: Вокалисты, Интервью
Комментарии: 0

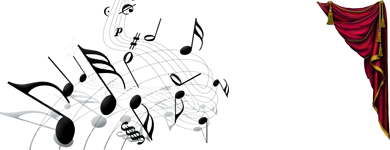
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка