«Ужасно жизнь наша гробит таланты!..»
Выдающийся петербургский композитор Борис Тищенко, думаю, в представлениях не нуждается. Автор шести симфоний, трёх балетов, множества камерных, вокальных, инструментальных произведений и большого количества музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам известен достаточно большому кругу любителей музыки – ведь исполнительская судьба его творчества складывалась в прошлом очень счастливо (а по нынешним меркам – в особенности), что в жизни современных композиторов бывает, увы, не часто. С вопроса об этом мы и начали нашу беседу.
– Борис Иванович, чем вы объясните свою столь удачную творческую биографию? Ведь вы всегда, насколько мне известно, считались человеком довольно «неудобным»: долго были «невыездным», в компартии никогда не состояли…
– Да я и сегодня «неудобный»! Однако никогда не становился ни у кого на дороге - не рвался к власти, не участвовал в дележе кресел. Поэтому у меня с коллегами очень добрые отношения. И мне всегда очень везло с исполнителями. Судите сами: Мстислав Ростропович, Виктор Либерман, Сергей Стадлер; дирижёры Кондрашин, Светланов, Блажков, Серов, Дмитриев…
– Мне часто доводится слышать, что, мол, Тищенко, всегда слывший «правдолюбом» и радикалом, в последнее время стал очень умеренным, спокойным… – Так сейчас все правду говорят! Даже тот, кто не знает, что такое правда, просто лезет из кожи вон, чтобы её сказать. Знаете, у Ильфа в «Записных книжках» есть такая фраза: «Борьба с подхалимажем дошла до такой степени, что с начальством были просто грубы». Когда разрешили, когда началась «гласность», все стали страшно смелыми. А раньше, действительно – лишь единицы говорили то, что думают. И я на самом деле стал более умеренным – хотя бы из чувства противоречия. Ну, не хочется мне «идти в ногу». Не хочется! Пусть все друг друга «обкладывают» – я за свою жизнь уже нахамил достаточно. (смеётся – К.Ш.).
– Но вашу музыку могли бы просто не исполнять – и кто бы тогда узнал о композиторе Тищенко?
– Всё это было; с юных лет у меня сочинения подолгу лежали. Первая симфония лежала лет девять; скрипичный концерт лет десять, «Тараканище» – двадцать до первого исполнения провалялся… Я, знаете, никогда не обращал на это внимания. Просто писал.
– Я знаю, что ваш «Реквием» на стихи Ахматовой пролежал «в столе» - ни много, ни мало – двадцать три года. Наверное, ощущение, испытываемое автором при этом, далеко не из приятных?
– Вы знаете, нет. «Не смертельно», как говорится. Во всяком случае, гораздо приятнее осознавать то, что сочинение у тебя в столе, чем то, что оно не написано.
– Было ли в вашей жизни событие, которое можно было бы назвать «этапным», с которого началось ваше признание?
– Важнейшим событием в жизни, несомненно, явилось для меня знакомство с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Именно он, со словами: «на счастье!», протянул мне левую руку 25 марта 1963 года. Тогда состоялся, можно сказать, мой дебют – в Колонном зале Дома Союзов я сыграл свой Фортепианный концерт, и эту дату я считаю моим выходом в «большую жизнь». Второе событие – это когда в 1966 году я, совершенно для себя неожиданно, получил Первую премию на международном композиторском конкурсе в Праге; сразу же после этого мой Виолончельный концерт исполнил Ростропович…
– Международное признание подоспело довольно быстро…
– Да, причём всё как-то «само пошло» - никаких усилий для этого мне прилагать почти не пришлось.
– Однако сегодня ваше имя – впрочем, как и любого современного автора – редко увидишь на филармонической афише. И странно, что публика довольствуется нехитрым «меню» из нескольких классических симфоний.
– Это беда. Публика в наше время как-то страшно, извините, поглупела. Вот, сравниваю с послевоенным временем – ведь я помню посетителей Филармонии того периода – 50-х, 60-х годов. Люди были совершенно иные! Правда, должен оговорить, что количество ныне перешло в качество: серьёзной публики стало меньше, но уровень её очень сильно вырос. При этом культура «среднестатистического» слушателя упала катастрофически! И мне грустно, хотя я прекрасно сознаю, что это явление не российского, а всемирного порядка.
– Значит, этим обстоятельством и следует объяснять падение в основной массе меломанов интереса к современной музыке?
– Виновата не только публика. Чтобы составить представление о какой-то музыке, её сначала надо услышать. С симфоническим музицированием в стране плохо, в основном, не за счёт «поглупения» публики, а наших, с позволения сказать, оркестровых «мэтров». То, что происходит у нас в городе – это надругательство над петербургской культурой! А вы – об интересе к современной симфонической музыке… Говорят, что рыба гниёт с головы – а наша музыкальная культура гниёт с главного дирижёра Филармонии. Это одна из многих причин упадка.
– Кстати, на Западе многие уважающие себя оркестры – будь то коллектив мировой известности или скромный муниципальный оркестр – считают своим долгом на открытии сезона исполнить новую музыку. Произведения специально заказываются композиторам к юбилею оркестра, города, просто к празднику…
– Я вам скажу, что разучивание новых произведений требует сил, таланта и доброжелательности. А когда нет ни того, ни другого, ни третьего – что же делать?..
– Но бытует и такое мнение, что собственно симфония, как форма, пришла в упадок, полностью исчерпав себя в творчестве Малера – или, скажем, Шостаковича…
– Эту песню я слышу довольно часто, и хочу вам ответить словами Альбана Берга. На аналогичный вопрос о «кризисе оперы» – мол, до каких пор он будет продолжаться, – Берг ответил совершенно гениально: «До тех пор, пока не появится новый шедевр в этом жанре».
Другое дело, что сейчас практически нет людей, которые взвалили бы на себя труд симфонического сочинительства – а это очень тяжёлое бремя, во-первых. Во-вторых, ещё Стравинский в своё время цинично, но реалистично сказал: сейчас очень дорого писать симфонии, и посему я ограничиваю себя довольно малым составом инструментов. А мы все же сейчас нищие! Кто поможет композитору? И поэтому, круг людей, пишущих симфонии без надежды их услышать, крайне невелик. Кстати, Шуберт своих последних симфоний так и не услышал – а времена и нравы были, вроде бы, куда как более благополучными… Но я убеждён, что вечно так продолжаться не может. Симфония – это высшее, что создало человечество в искусстве. Высшая форма! А наивысшая форма пустой оставаться не может – свято место пусто не бывает… Просто время дурное!
– Значит, перспектива полного вашего ухода в сферу, скажем, камерной музыки нам не грозит?
– Нет, у меня нет желания как-то себя ограничивать. Хотя салонное музицирование в последнее время уже входит в нашу жизнь и развивается более успешно, чем симфоническое исполнительство – но, по большому счёту, и камерная музыка сегодня в упадке. Чем люди заняты? – тем, что деньги приносит! Всякий рок, «поп» – три конвульсирующие обезьяны и колышащаяся людская масса – вот искусство, «понятое народом». Толпы приветствовали и Гитлера, и Сталина; культура «массовой» быть не может – массовым может быть только бескультурье.
– Да, но дух коммерции активно развивается и в мире классики. То обстоятельство, что культурные «главки» (как их не переименовывай) нынче никого, кроме собственного штата, деньгами не обеспечивают, вынуждает театры к оперным постановкам, изначально ориентированным на коммерческий успех на Западе. А многие дирижёры ставят в свои программы опусы различных авторов вовсе не оттого, что их пленяет творчество этих композиторов – но потому, что эти модные на Западе имена можно «прокатывать» весьма удачно…
– К счастью, так не везде. Есть у нас ещё люди, занимающиеся пропагандой культуры. Например, Геннадий Николаевич Рождественский. Или Эдуард Серов – его потому из Петербурга и постарались убрать побыстрее. Ведь он умеет то, что давно разучились делать все наши «мэтры»: например, читать новые партитуры. А это очень трудно! Надо иметь талант, большое желание и упорство. Куда проще «отмахать» лишний раз, скажем, Пятую Чайковского, «Князя Игоря» или проаккомпанировать концерт Прокофьева… Новая музыка требует труда – а сейчас люди иногда вообще ведут себя, как ученики начальной школы, когда заболел учитель: можно ничего не делать, можно ходить вверх тормашками, драться ранцами… Какой-то инфантилизм! Казалось бы – надо собраться с силами и просто стараться делать своё дело хорошо… Нет! Учитель заболел – и можно ничего не делать. А из неучей ничего, кроме начальства, никогда не получится.
И сегодня наше государство урезает и без того просто нищенское содержание многих культурных учреждений. Но субсидирование культуры – почти единственно правильное помещение государственных денег, потому что культура отдаёт сторицей; это, правда, происходит не сразу – и не всегда там, где ожидаешь.
Однако экономия на этом приведёт к тому, что в стране станет ещё хуже; и они даже не подозревают, насколько быстро! Придётся туже затягивать ремни – и вновь творить, что называется, «в ящик». Впрочем, я умею это делать.
– Извините, но, по-моему, вы уже этим и занимаетесь. Я даже не берусь сказать точно, сколько времени ваша музыка не звучит, например, в Большом зале Филармонии…
– Я могу вам подсказать – с приходом на пост главного дирижёра Юрия Темирканова. Он просто запретил исполнять мою музыку в обоих залах Филармонии. В Малом зале переусердствовали до того, что даже сорвали наш концерт с Ниной Бейлиной, где я должен был выступать в качестве пианиста.
Было очень стыдно перед известной американской скрипачкой. Счастье, что Дом Композитора предоставил нам зал – спасибо ему за это.
– За что же подобная немилость?
– За то, что я позволил себе в своё время выступить в печати с критикой по адресу избалованного и капризного любимца… Не удивлюсь, если в этом сезоне – год столетия Марины Цветаевой – не состоится исполнения моей Второй симфонии (первого сочинения на её стихи), которого добиваются музыканты. Для этого человека нет ничего святого!
– Но насколько вообще правомочен такой запрет? Тем более, в наше время…
– Во-первых, «с тех пор» обстановка в Филармонии лишь ухудшилась. А потом... Ведь мы глухи, слепы! Сейчас не только равнодушие, но и какая-то ненависть по отношению к искусству у людей! Знаете, любые пороки произрастают на соответствующей почве. И мне, петербуржцу, закрыт доступ в Филармонию – которую считаю своим домом: я там вырос!
– Неужели Темирканов вас так возненавидел? Признаться, подобные «запреты» на музыку напоминают больше нечто из жизни поп-исполнителей…
– Согласен. Но именно он сорвал на III международном музыкальном фестивале исполнение Реквиема на стихи Ахматовой. И это накануне 100-летия Анны Андреевны! На что рука поднялась! Затем, 23 мая 1989 года, в день юбилея поэтессы, он попытался запретить исполнение в Большом зале. Но я припугнул судом (есть такая статья – месть за критику). Маэстро «сдрейфил», и концерт состоялся. Правда, Темирканов навестил репетицию: следил, чтобы оркестр, не дай Бог, не проявил бы вдохновения и таланта. И тут же после исполнения уволил из Филармонии Эдуарда Серова (практически единственного, кстати, стажёра Евгения Мравинского – К.B.). – В общем, хорошо, что этот человек всё время гастролирует – меньше вреда. Как только приедет – так какая-то гадость.
– Недавно мне довелось прочесть французскую рецензию о гастролях Заслуженного коллектива во Франции. Она называлась: «Нам надо забыть этот оркестр».
– Верно. Нам с вами – тоже. Несмотря на то, что я очень любил этот оркестр… Там много высококлассных профессионалов, да и просто моих друзей.&
– Однако пластинок с вашей музыкой в магазинах тоже не купить, хотя в отношении записей – и не только «там», но даже и на «Мелодии» – вас, наверное, можно назвать достаточно благополучным человеком?
– Да, пожалуй. Хотя записано далеко не всё, но в Союзе у меня пластинок десяток, а то и полтора, наверное, есть. Но записано всё это уже давно, а «Мелодия» сейчас «перестроилась» и шлёпает только искусство «общего пользования». Про нас же и не вспоминает, хотя даже с коммерческой точки зрения есть резон: тиражи давно распроданы, матрицы хранятся, напечатайте ещё… Нет! И здесь речь не только о моих записях – попробуйте купить пластинку Мравинского, Шостаковича, Брукнера… Но как будто бы просто в воздухе философия такая носится: «чем хуже – тем лучше!» Пропади всё пропадом! Обвал – так пусть всех завалит! Откуда это у нас – не понимаю. А иногда люди как будто ещё и нарочно вредят, вредят, вредят – как, например, уже упоминавшийся Темирканов. Такое впечатление, что человек просто поклялся этому городу навредить или отомстить за что-то. Из ревнивой обиды на Божественный дар своего гениального предшественника, что ли?..
– Знаете, когда поговоришь с оркестрантами, складывается впечатление, что им всё равно, как и с кем играть, главное – выгодные гастроли с «башлями». А отношение музыкантов к исполнению новой музыки очень показательно раскрывает небольшой пример.
Когда второй филармонический оркестр записывал симфонию Асламазова, то в ответ на замечание композитора (возмущённого «тонкой» шуткой оркестранта, вместо игры на ударных лупившего молотком в пол) артист оркестра просто… непечатно «послал» автора, нимало не смутившись ни тем, что идёт запись, ни присутствием в зале съёмочной группы ТВ. Хороший штрих к культурному портрету «петербургского» коллектива, не правда ли?
– У меня года два назад в Москве исполнялся Второй скрипичный концерт. Я сидел на репетиции в маленькой церквушке у Цветного бульвара, и меня просто поразило доброжелательное отношение оркестрантов – я здесь от такого совершенно отвык! Я так тихонечко Серёже Стадлеру и говорю: «Надо же! На репетиции совсем не слышно матерщины!» А кто-то из оркестра услышал и говорит: «Да Бог с вами! Почему же должна быть матерщина?!» Мне так неудобно стало… Но здесь нас к этому просто приучили! Помимо извечных оркестрантских «шуток», ругательств, которые я нахожу в нотах после исполнения, само отношение просто оскорбительно: сидят нога на ногу, кто-то демонстративно книжку читает, еле-еле смычками водят – чтобы, не дай Бог, лишний волос не порвать… Это так страшно! Ей-Богу, для меня последнее время исполнение в нашей Филармонии было наказанием каким-то…
– А вы были знакомы с Мравинским?
– Да, и общение это для меня было очень плодотворным. Он, например, был инициатором моей Пятой симфонии, посвящённой памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Если бы не Евгений Александрович, то неизвестно, когда бы я приступил к работе над ней. Мы с ним не так часто общались, но человеку этому я обязан очень многим.
–Вы были учеником Шостаковича, но, говорят, вас связывала и большая личная дружба?
– Да, мы были знакомы с ним четырнадцать лет, до самого конца. Много общались, переписывались; бывали друг у друга в гостях, вместе музицировали…
– В связи с этим я не могу не спросить вас о нашумевшей в своё время книге Соломона Волкова, издавшего на Западе мемуары Шостаковича.
– Ух, этот вопрос мне задают постоянно, на каждом шагу! Уже отвечать не могу… Волков просто умолил меня в своё время, чтобы я привёл его к Дмитрию Дмитриевичу. Шостакович согласился, но сказал: «Приходите вместе, Боря – я хочу, чтобы вы при этом присутствовали». И рассказывал Дмитрий Дмитриевич очень скромненько ему – о своих первых годах, об игре в «Баррикаде», о Глазунове, об Асафьеве… Ну вот на столечко наговорил, а Волков выпустил толстенную книгу. Он опросил множество людей, всех – в том числе и меня, дурака! А затем, видимо, исхитрился получить у Шостаковича подпись на какой-то бумаге – и просто-напросто выдал всё это за его мемуары.
Это никакие не мемуары; почти все высказывания Дмитрия Дмитриевича, приведённые в книге, получены из третьих рук. Шостакович был человеком умным, очень осторожным и никогда бы не раскрылся перед первым встречным. Волков пытался выдавать себя за «друга дома», но Максим Шостакович как-то сказал: «Этого человека у нас в доме за столом я никогда не видел». Так что всё это очень, очень нечистоплотная работа. И мне немало в своё время из-за неё крови попортили, да продолжают и сегодня…
– В вашем активе – более ста опусов, среди которых немало оркестровых произведений. Вы, наверное, очень много работаете, и живёте по принципу «ни дня без строчки»?
– Принцип этот очень хорош, но сказать так о себе я, к сожалению, не имею права. Я постоянно стремлюсь к этому, однако достичь никак не могу.
– А какие из своих сочинений вы считаете наиболее удавшимися; наиболее любимыми?
– Ну, это немного разные вещи – «наиболее удавшиеся» и любимые. Потому что сочинение бывает иногда очень "кривое", корявое какое-то – но любимое; а бывает довольно совершенное, но к нему я отношусь гораздо спокойнее. Пожалуй, одна из самых любимых – Четвёртая симфония.
– Она для большого состава?
– Состав оркестра огромный! И слышал я её только один раз – благодаря подвижническому труду Геннадия Рождественского. Он, помню, отменил симфонию Брукнера, взял девять репетиций…
– Ого!
– Да… И всё равно было очень много досадных накладок. Она очень трудна для исполнения! Кстати, писал я её как раз «в стол»; никогда не надеялся услышать! Но благодаря такому подвигу Геннадия Николаевича она прозвучала почти сразу после того, как я закончил партитуру. Это было, как сон… И чем дальше, тем меньше у меня шансов услышать её вновь. Вот она как раз из любимых вещей, хотя сучковатостей, «корявостей» всяких в ней – хоть отбавляй; и в оркестровке, и в мелодизме, и в форме. Пятую фортепианную сонату очень люблю, хотя давно не играл – надо будет восстановить её «в пальцах»… А что касается «удавшихся» по всем признакам сочинений – то это, пожалуй, Вторая виолончельная соната.
– Мне говорили, что вы очень любите Моцарта…
– Да, конечно!
– …и что каждый день его помногу играете?
– Ну, нет! Сегодня у меня «в пальцах» гораздо больше Шостаковича, пожалуй.
– Кстати, от многих композиторов вас выгодно отличает ещё и блестящее владение фортепиано.
– Спасибо, такую похвалу мне приятно слышать.
Я всё время вспоминаю случай с Глазуновым – знаете, после того, как он дирижировал премьерой своей Восьмой симфонии. Все заходят за кулисы, поздравляют – а он стоит насупленный и всё больше мрачнеет. Наконец одна дама говорит: «Александр Константинович, ну почему вы такой грустный? Вы же написали такую замечательную симфонию!» На что он мрачно пробубнил: «Да, все говорят, какой я композитор, и никто ни слова не скажет, какой я дирижёр!»
– А как вы относитесь к «сериалистам», к додекафонистам?…
– Да так трудно ответить: они же все разные! Как и композиторы, пользовавшиеся классической гармонией: ведь среди них были и Моцарт, и Сальери; Бетховен, к примеру – и… Так и здесь: когда, например, дело в руках Шёнберга или Альбана Берга – то это гениально; а когда…
– Скажем, Каретникова?
– Ну, Каретникова мне не хотелось бы задевать – он и так, по-моему, больше всех пострадал…
– Мой последний вопрос будет обращён к вам, как к профессору Петербургской Консерватории. Среди ваших нынешних учеников могли бы вы выделить яркий талант, «восходящую звезду»?
– Всегда очень трудно говорить о тех, кто подрастает – человек может оправдать надежды, а может и нет…
– Тогда я вопрос немного скорректирую: есть ли у вас любимые ученики?
– Я всегда в таких случаях говорю об Ирине Цеслюкевич – по-моему, это выдающийся талант! Она написала несколько замечательных вещей – в частности, кантату «День», оперу «Конец Казановы» по Цветаевой – её поставил Покровский в Москве. У неё, кстати, есть прекрасная симфония, написанная ещё у меня в классе. Ирина почему-то её ужасно застеснялась и «не выпустила» нигде исполнять, хотя я и очень настаивал… Есть ещё недавний мой выпускник – Леонид Резетдинов, очень много пишет, страшно трудолюбивый…
– Из его сочинений я слышал только симфониетту «Давайте строить музыку», и должен сказать, что сильного впечатления она на меня не произвела…
– Я думаю, что Леонид, может быть, ещё не написал того, что должен написать. Порой мне кажется, что у него в музыке как бы немного больше нот, чем надо… Но от этого молодые люди быстро избавляются, и понимают, что «выгоднее» писать нот чуть меньше, но каждую нагружать смыслом чуть побольше. Как, например, у Уствольской. Хотя говорить о «выгоде» применительно к такому бескорыстнейшему таланту, каким является Галина Ивановна, конечно, нелепо. Среди учеников можно ещё отметить Ольгу Петрову, Валерия Пигузова, Александра Макарова, Анну Абдулаеву, Ариэля Давыдова… Знаете, так сложно очень говорить – всё время боишься кого-то упустить, а потом за голову хвататься! Но есть, есть таланты. Одарённых ребят очень много – хватило бы им только сил выжить и нормально при этом работать... Ужасно жизнь наша гробит таланты!..
Интервью было записано Кириллом Веселаго
и опубликовано в петербургской газете «Смена» 22 января 1992 года.
– Борис Иванович, чем вы объясните свою столь удачную творческую биографию? Ведь вы всегда, насколько мне известно, считались человеком довольно «неудобным»: долго были «невыездным», в компартии никогда не состояли…
– Да я и сегодня «неудобный»! Однако никогда не становился ни у кого на дороге - не рвался к власти, не участвовал в дележе кресел. Поэтому у меня с коллегами очень добрые отношения. И мне всегда очень везло с исполнителями. Судите сами: Мстислав Ростропович, Виктор Либерман, Сергей Стадлер; дирижёры Кондрашин, Светланов, Блажков, Серов, Дмитриев…
– Мне часто доводится слышать, что, мол, Тищенко, всегда слывший «правдолюбом» и радикалом, в последнее время стал очень умеренным, спокойным… – Так сейчас все правду говорят! Даже тот, кто не знает, что такое правда, просто лезет из кожи вон, чтобы её сказать. Знаете, у Ильфа в «Записных книжках» есть такая фраза: «Борьба с подхалимажем дошла до такой степени, что с начальством были просто грубы». Когда разрешили, когда началась «гласность», все стали страшно смелыми. А раньше, действительно – лишь единицы говорили то, что думают. И я на самом деле стал более умеренным – хотя бы из чувства противоречия. Ну, не хочется мне «идти в ногу». Не хочется! Пусть все друг друга «обкладывают» – я за свою жизнь уже нахамил достаточно. (смеётся – К.Ш.).
– Но вашу музыку могли бы просто не исполнять – и кто бы тогда узнал о композиторе Тищенко?
– Всё это было; с юных лет у меня сочинения подолгу лежали. Первая симфония лежала лет девять; скрипичный концерт лет десять, «Тараканище» – двадцать до первого исполнения провалялся… Я, знаете, никогда не обращал на это внимания. Просто писал.
– Я знаю, что ваш «Реквием» на стихи Ахматовой пролежал «в столе» - ни много, ни мало – двадцать три года. Наверное, ощущение, испытываемое автором при этом, далеко не из приятных?
– Вы знаете, нет. «Не смертельно», как говорится. Во всяком случае, гораздо приятнее осознавать то, что сочинение у тебя в столе, чем то, что оно не написано.
– Было ли в вашей жизни событие, которое можно было бы назвать «этапным», с которого началось ваше признание?
– Важнейшим событием в жизни, несомненно, явилось для меня знакомство с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Именно он, со словами: «на счастье!», протянул мне левую руку 25 марта 1963 года. Тогда состоялся, можно сказать, мой дебют – в Колонном зале Дома Союзов я сыграл свой Фортепианный концерт, и эту дату я считаю моим выходом в «большую жизнь». Второе событие – это когда в 1966 году я, совершенно для себя неожиданно, получил Первую премию на международном композиторском конкурсе в Праге; сразу же после этого мой Виолончельный концерт исполнил Ростропович…
– Международное признание подоспело довольно быстро…
– Да, причём всё как-то «само пошло» - никаких усилий для этого мне прилагать почти не пришлось.
– Однако сегодня ваше имя – впрочем, как и любого современного автора – редко увидишь на филармонической афише. И странно, что публика довольствуется нехитрым «меню» из нескольких классических симфоний.
– Это беда. Публика в наше время как-то страшно, извините, поглупела. Вот, сравниваю с послевоенным временем – ведь я помню посетителей Филармонии того периода – 50-х, 60-х годов. Люди были совершенно иные! Правда, должен оговорить, что количество ныне перешло в качество: серьёзной публики стало меньше, но уровень её очень сильно вырос. При этом культура «среднестатистического» слушателя упала катастрофически! И мне грустно, хотя я прекрасно сознаю, что это явление не российского, а всемирного порядка.
– Значит, этим обстоятельством и следует объяснять падение в основной массе меломанов интереса к современной музыке?
– Виновата не только публика. Чтобы составить представление о какой-то музыке, её сначала надо услышать. С симфоническим музицированием в стране плохо, в основном, не за счёт «поглупения» публики, а наших, с позволения сказать, оркестровых «мэтров». То, что происходит у нас в городе – это надругательство над петербургской культурой! А вы – об интересе к современной симфонической музыке… Говорят, что рыба гниёт с головы – а наша музыкальная культура гниёт с главного дирижёра Филармонии. Это одна из многих причин упадка.
– Кстати, на Западе многие уважающие себя оркестры – будь то коллектив мировой известности или скромный муниципальный оркестр – считают своим долгом на открытии сезона исполнить новую музыку. Произведения специально заказываются композиторам к юбилею оркестра, города, просто к празднику…
– Я вам скажу, что разучивание новых произведений требует сил, таланта и доброжелательности. А когда нет ни того, ни другого, ни третьего – что же делать?..
– Но бытует и такое мнение, что собственно симфония, как форма, пришла в упадок, полностью исчерпав себя в творчестве Малера – или, скажем, Шостаковича…
– Эту песню я слышу довольно часто, и хочу вам ответить словами Альбана Берга. На аналогичный вопрос о «кризисе оперы» – мол, до каких пор он будет продолжаться, – Берг ответил совершенно гениально: «До тех пор, пока не появится новый шедевр в этом жанре».
Другое дело, что сейчас практически нет людей, которые взвалили бы на себя труд симфонического сочинительства – а это очень тяжёлое бремя, во-первых. Во-вторых, ещё Стравинский в своё время цинично, но реалистично сказал: сейчас очень дорого писать симфонии, и посему я ограничиваю себя довольно малым составом инструментов. А мы все же сейчас нищие! Кто поможет композитору? И поэтому, круг людей, пишущих симфонии без надежды их услышать, крайне невелик. Кстати, Шуберт своих последних симфоний так и не услышал – а времена и нравы были, вроде бы, куда как более благополучными… Но я убеждён, что вечно так продолжаться не может. Симфония – это высшее, что создало человечество в искусстве. Высшая форма! А наивысшая форма пустой оставаться не может – свято место пусто не бывает… Просто время дурное!
– Значит, перспектива полного вашего ухода в сферу, скажем, камерной музыки нам не грозит?
– Нет, у меня нет желания как-то себя ограничивать. Хотя салонное музицирование в последнее время уже входит в нашу жизнь и развивается более успешно, чем симфоническое исполнительство – но, по большому счёту, и камерная музыка сегодня в упадке. Чем люди заняты? – тем, что деньги приносит! Всякий рок, «поп» – три конвульсирующие обезьяны и колышащаяся людская масса – вот искусство, «понятое народом». Толпы приветствовали и Гитлера, и Сталина; культура «массовой» быть не может – массовым может быть только бескультурье.
– Да, но дух коммерции активно развивается и в мире классики. То обстоятельство, что культурные «главки» (как их не переименовывай) нынче никого, кроме собственного штата, деньгами не обеспечивают, вынуждает театры к оперным постановкам, изначально ориентированным на коммерческий успех на Западе. А многие дирижёры ставят в свои программы опусы различных авторов вовсе не оттого, что их пленяет творчество этих композиторов – но потому, что эти модные на Западе имена можно «прокатывать» весьма удачно…
– К счастью, так не везде. Есть у нас ещё люди, занимающиеся пропагандой культуры. Например, Геннадий Николаевич Рождественский. Или Эдуард Серов – его потому из Петербурга и постарались убрать побыстрее. Ведь он умеет то, что давно разучились делать все наши «мэтры»: например, читать новые партитуры. А это очень трудно! Надо иметь талант, большое желание и упорство. Куда проще «отмахать» лишний раз, скажем, Пятую Чайковского, «Князя Игоря» или проаккомпанировать концерт Прокофьева… Новая музыка требует труда – а сейчас люди иногда вообще ведут себя, как ученики начальной школы, когда заболел учитель: можно ничего не делать, можно ходить вверх тормашками, драться ранцами… Какой-то инфантилизм! Казалось бы – надо собраться с силами и просто стараться делать своё дело хорошо… Нет! Учитель заболел – и можно ничего не делать. А из неучей ничего, кроме начальства, никогда не получится.
И сегодня наше государство урезает и без того просто нищенское содержание многих культурных учреждений. Но субсидирование культуры – почти единственно правильное помещение государственных денег, потому что культура отдаёт сторицей; это, правда, происходит не сразу – и не всегда там, где ожидаешь.
Однако экономия на этом приведёт к тому, что в стране станет ещё хуже; и они даже не подозревают, насколько быстро! Придётся туже затягивать ремни – и вновь творить, что называется, «в ящик». Впрочем, я умею это делать.
– Извините, но, по-моему, вы уже этим и занимаетесь. Я даже не берусь сказать точно, сколько времени ваша музыка не звучит, например, в Большом зале Филармонии…
– Я могу вам подсказать – с приходом на пост главного дирижёра Юрия Темирканова. Он просто запретил исполнять мою музыку в обоих залах Филармонии. В Малом зале переусердствовали до того, что даже сорвали наш концерт с Ниной Бейлиной, где я должен был выступать в качестве пианиста.
Было очень стыдно перед известной американской скрипачкой. Счастье, что Дом Композитора предоставил нам зал – спасибо ему за это.
– За что же подобная немилость?
– За то, что я позволил себе в своё время выступить в печати с критикой по адресу избалованного и капризного любимца… Не удивлюсь, если в этом сезоне – год столетия Марины Цветаевой – не состоится исполнения моей Второй симфонии (первого сочинения на её стихи), которого добиваются музыканты. Для этого человека нет ничего святого!
– Но насколько вообще правомочен такой запрет? Тем более, в наше время…
– Во-первых, «с тех пор» обстановка в Филармонии лишь ухудшилась. А потом... Ведь мы глухи, слепы! Сейчас не только равнодушие, но и какая-то ненависть по отношению к искусству у людей! Знаете, любые пороки произрастают на соответствующей почве. И мне, петербуржцу, закрыт доступ в Филармонию – которую считаю своим домом: я там вырос!
– Неужели Темирканов вас так возненавидел? Признаться, подобные «запреты» на музыку напоминают больше нечто из жизни поп-исполнителей…
– Согласен. Но именно он сорвал на III международном музыкальном фестивале исполнение Реквиема на стихи Ахматовой. И это накануне 100-летия Анны Андреевны! На что рука поднялась! Затем, 23 мая 1989 года, в день юбилея поэтессы, он попытался запретить исполнение в Большом зале. Но я припугнул судом (есть такая статья – месть за критику). Маэстро «сдрейфил», и концерт состоялся. Правда, Темирканов навестил репетицию: следил, чтобы оркестр, не дай Бог, не проявил бы вдохновения и таланта. И тут же после исполнения уволил из Филармонии Эдуарда Серова (практически единственного, кстати, стажёра Евгения Мравинского – К.B.). – В общем, хорошо, что этот человек всё время гастролирует – меньше вреда. Как только приедет – так какая-то гадость.
– Недавно мне довелось прочесть французскую рецензию о гастролях Заслуженного коллектива во Франции. Она называлась: «Нам надо забыть этот оркестр».
– Верно. Нам с вами – тоже. Несмотря на то, что я очень любил этот оркестр… Там много высококлассных профессионалов, да и просто моих друзей.&
– Однако пластинок с вашей музыкой в магазинах тоже не купить, хотя в отношении записей – и не только «там», но даже и на «Мелодии» – вас, наверное, можно назвать достаточно благополучным человеком?
– Да, пожалуй. Хотя записано далеко не всё, но в Союзе у меня пластинок десяток, а то и полтора, наверное, есть. Но записано всё это уже давно, а «Мелодия» сейчас «перестроилась» и шлёпает только искусство «общего пользования». Про нас же и не вспоминает, хотя даже с коммерческой точки зрения есть резон: тиражи давно распроданы, матрицы хранятся, напечатайте ещё… Нет! И здесь речь не только о моих записях – попробуйте купить пластинку Мравинского, Шостаковича, Брукнера… Но как будто бы просто в воздухе философия такая носится: «чем хуже – тем лучше!» Пропади всё пропадом! Обвал – так пусть всех завалит! Откуда это у нас – не понимаю. А иногда люди как будто ещё и нарочно вредят, вредят, вредят – как, например, уже упоминавшийся Темирканов. Такое впечатление, что человек просто поклялся этому городу навредить или отомстить за что-то. Из ревнивой обиды на Божественный дар своего гениального предшественника, что ли?..
– Знаете, когда поговоришь с оркестрантами, складывается впечатление, что им всё равно, как и с кем играть, главное – выгодные гастроли с «башлями». А отношение музыкантов к исполнению новой музыки очень показательно раскрывает небольшой пример.
Когда второй филармонический оркестр записывал симфонию Асламазова, то в ответ на замечание композитора (возмущённого «тонкой» шуткой оркестранта, вместо игры на ударных лупившего молотком в пол) артист оркестра просто… непечатно «послал» автора, нимало не смутившись ни тем, что идёт запись, ни присутствием в зале съёмочной группы ТВ. Хороший штрих к культурному портрету «петербургского» коллектива, не правда ли?
– У меня года два назад в Москве исполнялся Второй скрипичный концерт. Я сидел на репетиции в маленькой церквушке у Цветного бульвара, и меня просто поразило доброжелательное отношение оркестрантов – я здесь от такого совершенно отвык! Я так тихонечко Серёже Стадлеру и говорю: «Надо же! На репетиции совсем не слышно матерщины!» А кто-то из оркестра услышал и говорит: «Да Бог с вами! Почему же должна быть матерщина?!» Мне так неудобно стало… Но здесь нас к этому просто приучили! Помимо извечных оркестрантских «шуток», ругательств, которые я нахожу в нотах после исполнения, само отношение просто оскорбительно: сидят нога на ногу, кто-то демонстративно книжку читает, еле-еле смычками водят – чтобы, не дай Бог, лишний волос не порвать… Это так страшно! Ей-Богу, для меня последнее время исполнение в нашей Филармонии было наказанием каким-то…
– А вы были знакомы с Мравинским?
– Да, и общение это для меня было очень плодотворным. Он, например, был инициатором моей Пятой симфонии, посвящённой памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Если бы не Евгений Александрович, то неизвестно, когда бы я приступил к работе над ней. Мы с ним не так часто общались, но человеку этому я обязан очень многим.
–Вы были учеником Шостаковича, но, говорят, вас связывала и большая личная дружба?
– Да, мы были знакомы с ним четырнадцать лет, до самого конца. Много общались, переписывались; бывали друг у друга в гостях, вместе музицировали…
– В связи с этим я не могу не спросить вас о нашумевшей в своё время книге Соломона Волкова, издавшего на Западе мемуары Шостаковича.
– Ух, этот вопрос мне задают постоянно, на каждом шагу! Уже отвечать не могу… Волков просто умолил меня в своё время, чтобы я привёл его к Дмитрию Дмитриевичу. Шостакович согласился, но сказал: «Приходите вместе, Боря – я хочу, чтобы вы при этом присутствовали». И рассказывал Дмитрий Дмитриевич очень скромненько ему – о своих первых годах, об игре в «Баррикаде», о Глазунове, об Асафьеве… Ну вот на столечко наговорил, а Волков выпустил толстенную книгу. Он опросил множество людей, всех – в том числе и меня, дурака! А затем, видимо, исхитрился получить у Шостаковича подпись на какой-то бумаге – и просто-напросто выдал всё это за его мемуары.
Это никакие не мемуары; почти все высказывания Дмитрия Дмитриевича, приведённые в книге, получены из третьих рук. Шостакович был человеком умным, очень осторожным и никогда бы не раскрылся перед первым встречным. Волков пытался выдавать себя за «друга дома», но Максим Шостакович как-то сказал: «Этого человека у нас в доме за столом я никогда не видел». Так что всё это очень, очень нечистоплотная работа. И мне немало в своё время из-за неё крови попортили, да продолжают и сегодня…
– В вашем активе – более ста опусов, среди которых немало оркестровых произведений. Вы, наверное, очень много работаете, и живёте по принципу «ни дня без строчки»?
– Принцип этот очень хорош, но сказать так о себе я, к сожалению, не имею права. Я постоянно стремлюсь к этому, однако достичь никак не могу.
– А какие из своих сочинений вы считаете наиболее удавшимися; наиболее любимыми?
– Ну, это немного разные вещи – «наиболее удавшиеся» и любимые. Потому что сочинение бывает иногда очень "кривое", корявое какое-то – но любимое; а бывает довольно совершенное, но к нему я отношусь гораздо спокойнее. Пожалуй, одна из самых любимых – Четвёртая симфония.
– Она для большого состава?
– Состав оркестра огромный! И слышал я её только один раз – благодаря подвижническому труду Геннадия Рождественского. Он, помню, отменил симфонию Брукнера, взял девять репетиций…
– Ого!
– Да… И всё равно было очень много досадных накладок. Она очень трудна для исполнения! Кстати, писал я её как раз «в стол»; никогда не надеялся услышать! Но благодаря такому подвигу Геннадия Николаевича она прозвучала почти сразу после того, как я закончил партитуру. Это было, как сон… И чем дальше, тем меньше у меня шансов услышать её вновь. Вот она как раз из любимых вещей, хотя сучковатостей, «корявостей» всяких в ней – хоть отбавляй; и в оркестровке, и в мелодизме, и в форме. Пятую фортепианную сонату очень люблю, хотя давно не играл – надо будет восстановить её «в пальцах»… А что касается «удавшихся» по всем признакам сочинений – то это, пожалуй, Вторая виолончельная соната.
– Мне говорили, что вы очень любите Моцарта…
– Да, конечно!
– …и что каждый день его помногу играете?
– Ну, нет! Сегодня у меня «в пальцах» гораздо больше Шостаковича, пожалуй.
– Кстати, от многих композиторов вас выгодно отличает ещё и блестящее владение фортепиано.
– Спасибо, такую похвалу мне приятно слышать.
Я всё время вспоминаю случай с Глазуновым – знаете, после того, как он дирижировал премьерой своей Восьмой симфонии. Все заходят за кулисы, поздравляют – а он стоит насупленный и всё больше мрачнеет. Наконец одна дама говорит: «Александр Константинович, ну почему вы такой грустный? Вы же написали такую замечательную симфонию!» На что он мрачно пробубнил: «Да, все говорят, какой я композитор, и никто ни слова не скажет, какой я дирижёр!»
– А как вы относитесь к «сериалистам», к додекафонистам?…
– Да так трудно ответить: они же все разные! Как и композиторы, пользовавшиеся классической гармонией: ведь среди них были и Моцарт, и Сальери; Бетховен, к примеру – и… Так и здесь: когда, например, дело в руках Шёнберга или Альбана Берга – то это гениально; а когда…
– Скажем, Каретникова?
– Ну, Каретникова мне не хотелось бы задевать – он и так, по-моему, больше всех пострадал…
– Мой последний вопрос будет обращён к вам, как к профессору Петербургской Консерватории. Среди ваших нынешних учеников могли бы вы выделить яркий талант, «восходящую звезду»?
– Всегда очень трудно говорить о тех, кто подрастает – человек может оправдать надежды, а может и нет…
– Тогда я вопрос немного скорректирую: есть ли у вас любимые ученики?
– Я всегда в таких случаях говорю об Ирине Цеслюкевич – по-моему, это выдающийся талант! Она написала несколько замечательных вещей – в частности, кантату «День», оперу «Конец Казановы» по Цветаевой – её поставил Покровский в Москве. У неё, кстати, есть прекрасная симфония, написанная ещё у меня в классе. Ирина почему-то её ужасно застеснялась и «не выпустила» нигде исполнять, хотя я и очень настаивал… Есть ещё недавний мой выпускник – Леонид Резетдинов, очень много пишет, страшно трудолюбивый…
– Из его сочинений я слышал только симфониетту «Давайте строить музыку», и должен сказать, что сильного впечатления она на меня не произвела…
– Я думаю, что Леонид, может быть, ещё не написал того, что должен написать. Порой мне кажется, что у него в музыке как бы немного больше нот, чем надо… Но от этого молодые люди быстро избавляются, и понимают, что «выгоднее» писать нот чуть меньше, но каждую нагружать смыслом чуть побольше. Как, например, у Уствольской. Хотя говорить о «выгоде» применительно к такому бескорыстнейшему таланту, каким является Галина Ивановна, конечно, нелепо. Среди учеников можно ещё отметить Ольгу Петрову, Валерия Пигузова, Александра Макарова, Анну Абдулаеву, Ариэля Давыдова… Знаете, так сложно очень говорить – всё время боишься кого-то упустить, а потом за голову хвататься! Но есть, есть таланты. Одарённых ребят очень много – хватило бы им только сил выжить и нормально при этом работать... Ужасно жизнь наша гробит таланты!..
Интервью было записано Кириллом Веселаго
и опубликовано в петербургской газете «Смена» 22 января 1992 года.
Публикация: 2-01-2001
Просмотров: 3604
Категория: Интервью
Комментарии: 0

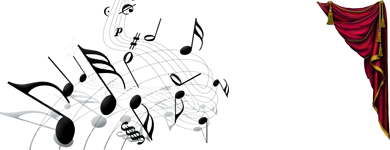
 Поиск
Поиск Навигация
Навигация Авторизация
Авторизация Архив публикаций
Архив публикаций Календарь
Календарь Опрос
Опрос Читать
Читать Классическая музыка
Классическая музыка